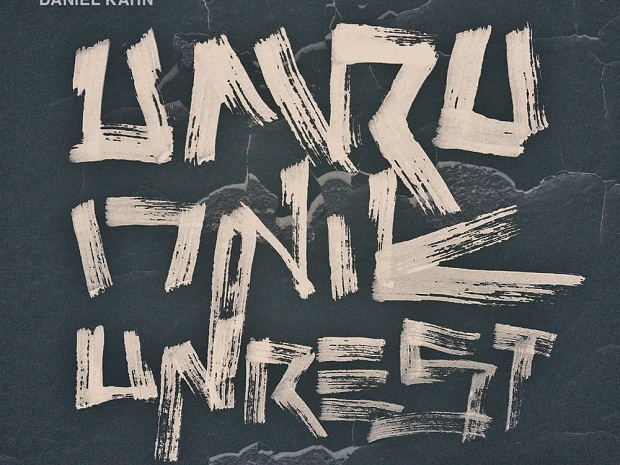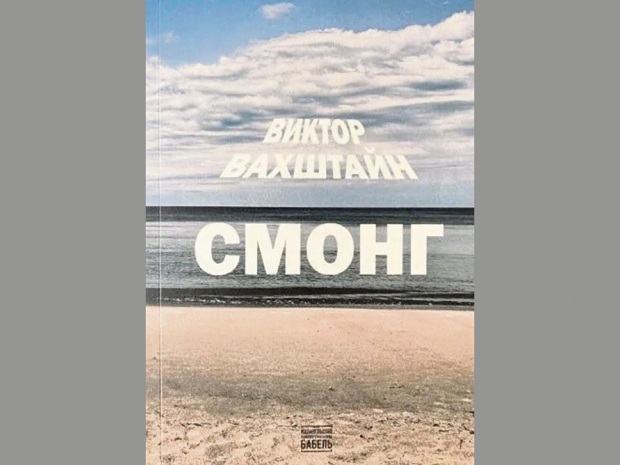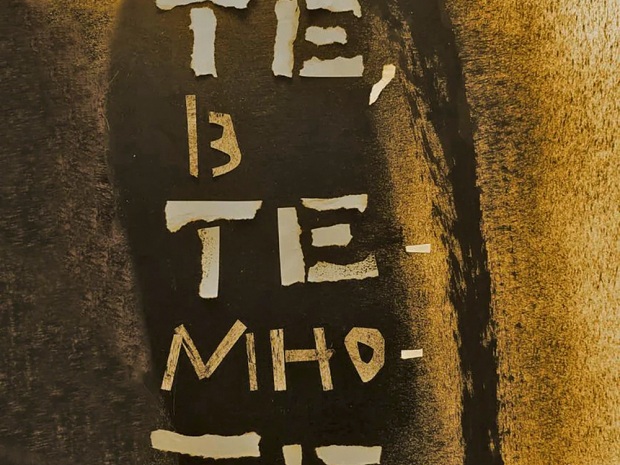Чего ему не простят
К 90-летию со дня рождения Евгения Евтушенко

Е. Евтушенко на открытии своего музея в Переделкино, 2010 г.© Hana Lasman
Этот текст бы написан в память о Евгении Евтушенко – последнем великом русском поэте ХХ века. Последнем шестидесятнике, последнем из культовой четверки Евтушенко–Вознесенский–Рождественский–Ахмадуллина. И, повторю, отвечая за каждое слово: Последнего Великого Поэта ХХ века.
Не буду скрывать: к той боли, которая всегда возникает при известии о смерти великого поэта, у меня примешивалась и чисто личная боль, так как судьба несколько раз сталкивала с Евгением Александровичем, и каждая из этих встреч осталась в памяти до мельчайших подробностей.
В первый раз это случилось в 1980 г., когда я, 16-летний пацан, решил показать свои стихи приехавшему в Баку с единственным поэтическим концертом Евтушенко. Помнится, прождал его возле гостиничного номера несколько часов, но он ушел гулять по городу и вернулся лишь минут за 15 до концерта.
«Приходите завтра в десять, хорошо?!» – сказал он мне.
И вряд ли нужно говорить, что на следующий день я был на том же месте уже в восемь утра. Евтушенко пришел в номер около полудня, разумеется после тяжелой ночной попойки, которую устроили в его честь азербайджанские писатели.
Так как мне самому не раз приходилось участвовать в таких посиделках, я хорошо знал, что после них хочется только одного – спать. Явившись, Евгений Александрович с помощью пары-тройки хлестких фраз отмахнулся от наседавших на него журналистов, пригласил меня в номер, взял из моих рук тетрадку и сел читать.
В сущности, читать там, как я уже сказал, было нечего. Стихи были совершенно беспомощными, так что достаточно было просто пробежать глазами по строкам, чтобы составить общее мнение и высказать его в предельно вежливой форме. Но Евтушенко именно читал стихи пришедшего с улицы подростка, а не пробегал по ним глазами. И это было видно – он проговаривал их про себя, временами возвращался к предыдущей странице, явно размышляя по ходу дела, как высказать всё, что он об этом думает, и одновременно меня не обидеть…
А у меня с каждой минутой всё сильнее сосало под ложечкой, в груди образовалась противная холодная пустота, а рубашка на спине стала мокрой от пота – было ощущение, что вот сейчас решается судьба, что его слова определят всю мою последующую жизнь.
– Ну что ж, – сказал Евтушенко, оторвавшись наконец от тетрадки. – Прежде всего, хочу сказать, что мне нравится застенчивая наглость ваших строк…
– Евгений Александрович, – не выдержал я. – А почему вы говорите мне «вы»? Мне даже как-то неудобно…
– Да потому, что человек должен говорить «ты» только самым близким людям. Любимой женщине, например. Или лучшему другу, – ответил он. – А всем остальным, независимо от возраста, следует говорить «вы». Даже если вы находитесь в приятельских отношениях…
Влияние его личности на меня в те дни былo так велико, что я запомнил это правило и чисто инстинктивно всё еще продолжаю ему следовать. Мне до сих пор крайне тяжело перейти в разговоре с кем бы то ни было, в том числе с людьми, которые мне очень симпатичны, на «ты».
А Евтушенко тем временем перешел к подробному разбору каждого стихотворения. Я, в принципе, уже был знаком с азами анализа поэтического текста, но то, что делал Евтушенко с моими опусами, было нечто совершенно другое. Он начинал с того, что выделял в каждом стихотворении сильные или, как он, кажется, говорил, «отличные, четкие строки», объяснял, в чем их сила, и уже затем переходил к разъяснению, почему именно стихотворение в итоге размазалось, не вышло, утратило вложенную в него в начале энергетику.
Это был мой первый в жизни поэтический мастер-класс и одновременно блестящий урок по чистоте русского языка – Евтушенко подчеркивал красным все «бакинские» диалектизмы, сбивки в ударениях – и вот тут он был поистине безжалостен.
В заключение Евтушенко произнес банальную, но прозвучавшую после всего им сказанного совсем неформально фразу о том, что мне следует больше читать современных поэтов, учиться у них, но не сбиваться на подражательство. Тем более что у меня, дескать, есть «своя интонация». У меня от этих слов сердце чуть не выпрыгнуло за скобы ребер. Подумать только – у меня есть своя интонация!
Думается, то, что, будучи смертельно уставшим, Евгений Александрович нашел почти два часа на чтение стихов юного графомана, имевшего наглость поймать его у дверей номера, многое говорит о нем как о человеке. Он вообще был неудержимо щедрый на такую вот поддержку молодой поросли, в Москве было даже такое выражение для этих его воспитанников – «евтушата». И в итоге жестоко расплатился за эту щедрость – когда его едва ли не напрямую обвинили в смерти выпестованной им Ники Турбиной.
Да и в чем только не обвиняли за всю его жизнь! Поэтические гурманы и снобы брезгливо морщились, когда его называли поэтом, и продолжают морщиться до сих пор. Когда его причисляли к диссидентам, опять следовала брезгливая улыбка и замечание: «Диссидент, да разрешенный!» – едва ли не с намеком на сотрудничество с КГБ. И гражданская лирика его была, дескать, не лирикой, а «поэтической публицистикой».
И, само собой, почти тут же вспоминали знаменитую реплику Бродского: «Если Евтушенко против колхозов, то я – за!». Евтушенко, кстати, при желании мог бы ответить Бродскому, но до ответа так и не опустился, ограничиваясь лишь признанием величия того как поэта.
Мало кто из этих псевдоаристократов духа задумывался о том, что фраза эта «роняет» как раз не Евтушенко, а Бродского, высвечивая то, насколько для последнего важно было личное отношение и второстепенны принципы. Евтушенко, кстати, был и против нацизма, так значило ли это, что Бродский – за нацизм?!
Для самого Евгения Александровича все было иначе: те жизненные принципы, которые он исповедовал, те идеалы, в которые верил, были выше личного. Да он и сам это скажет в своем блестящем стихотворении «Мне снится старый друг, который стал врагом…»:
…и ненависть его,
но не ко мне, а к тем,
кто были нам враги,
и будут, слава Богу.
Думается, ни один знаток литературных кулуаров прошлого века не сможет вспомнить ни одного поступка, который можно было бы поставить в вину Евгению Евтушенко. А вот подлинных жизненных и литературных подвигов, требовавших немалого человеческого мужества, он в своей жизни совершил немало. Одна лишь Валерия Новодворская в своем блестящем эссе о нем насчитала, кажется, пять: первый прорыв молчания о Бабьем Яре и Катастрофе, поведение во время Пражской весны, поддержка Пастернака и Солженицына… И список этот можно продолжить.
Вот почему меня не раз мучил вопрос: откуда же берет начало та брезгливая пренебрежительность, с какой относились к Евтушенко люди, сами зачастую бывшие литературными импотентами и тщательно замаскированными стукачами?
Ответы, которые находил, были самые разные. Прежде всего, дело, безусловно, в том, что Евтушенко относился к такой вот «высокой интеллигенции» соответственно и никогда для нее не писал. Он вообще никогда не был «рябчиком, фаршированным миндалем, под провансальским соусом с шампиньонами». Нет, Евтушенко – это пирожки с картошкой и капустой, с хрустящей корочкой, с обжигающей губы начинкой, которую покупаешь для любимой девушки у уличной торговки, а потом у тебя на губах остается от ее губ какой-то особый вкус, и хочется пробовать их еще и еще…
Евтушенко – это человек даже не из 1960-х, а из 1950-х: так и видишь его не тем старым морщинистым филином, каким он предстает на последних фотографиях, а юнцом из его ранних стихотворений:
Я шатаюсь в толкучке столичной
Над веселой апрельской водой,
Возмутитель нелогичный,
Непростительно молодой.
Занимаю трамваи с бою,
Увлеченно кому-то лгу
И бегу я сам за собою.
И догнать себя не могу…
Евтушенко так и остался «человеком апреля»: он, в отличие от Бродского, так и не превратился в холеного патриция от поэзии. И, думается, вот этой-то его непреходящей молодости, способности на смелые, свойственные только юности жесты, которую он пронес через всю жизнь, ему многие так и не простили. Многим старперам от литературы в этом виделось что-то неестественное, фальшивое, так как сами они на такое способны не были. А между тем для него все это было естественно, как дыхание – пусть и с некоторой долей рисовки, которая так свойственна подросткам. Фальши в нем не было, это точно.
Евтушенко был абсолютно искренен и в своих прозрениях, и в своих заблуждениях. И если, повторю, его не очень жаловали т. н. «интеллектуалы», то он, вне сомнения, был одним из любимых поэтов советской интеллигенции 1960–1990-х гг., так как отражал все ее метания и искания, всю вечную внутреннюю раздвоенность русского интеллигента. И его творчество в итоге вместило в себя целую эпоху – от Великой Отечественной, где он был мальчиком, плясавшим на свадьбах, до крушения великого и могучего – той самой зверофермы, на которой он был голубым песцом.
Говоря о том, что Высоцкий пел «для части планеты, чье имя галерка», Евтушенко, вне сомнения, писал о себе. И когда он сравнивал Лорку с пыльными долговязыми дон-кихотами из сувенирной лавки – это тоже было о себе. И вот это – тоже, вне сомнения, о себе:
Достойно, главное, достойно
В любые выжить времена,
Когда эпоха то застойна,
То взбаламучена до дна.
Достойно. Главное – достойно.
Чтоб раздаватели щедрот
Не довели тебя до стойла
И не заткнули сеном рот.
А ведь и в самом деле пытались заткнуть. Пытались, да не вышло…
Разумеется, его всемирной известностью пытались манипулировать. В последние годы жизни он часто приезжал в Израиль, и во время нашего последнего разговора рассказал о том, как долго сочувствовал «палестинским беженцам» и ратовал за «освобождение Палестины от израильской оккупации».
– Однажды, – рассказал Евтушенко, – меня повезли в лагерь палестинских беженцев близ Бейрута. Трущобы, условия жизни ужасающие – как тут не дрогнуть. В душе сами собой стали складываться стихи. И тут, извините за подробность, мне захотелось в туалет. Спрашиваю, где здесь туалет, и мне показывают небольшое каменное здание. Захожу внутрь, а там – повсюду мрамор, унитазы последней модели, краны чуть ли не из золота. И вот тут я понял, что лагерь-то с его нищетой создан для туристов, чтобы промывать им мозги. Когда я вышел из туалета, то прямо сказал: «Если вы можете строить такие туалеты, то почему не можете построить нормальные дома для людей?!» И на этом мой роман с ООП закончился, а вот роман с Иерусалимом продолжается. И ни одного плохого слова об Израиле я никогда не написал.
Как я и сказал, многое из того, что он говорил во время той нашей встречи о происходящем в России и в мире, о своем отношении к Израилю и нашем конфликте с арабами, о Катастрофе и значении для него этой темы, памятно до сих пор.
– Евгений Александрович, а давайте сядем где-нибудь в ресторанчике, выпьем, – предложил я.
– Да не люблю я пить с вами, евреями, – признался он. – Я только во вкус входить начинаю, а вы говорите, что всё – вам хватит, вы свою норму знаете!
И вот в этот момент я решил еще раз затронуть вопрос о том, насколько точна знаменитая строчка из «Бабьего Яра» – «еврейской крови нет в крови моей».
– Абсолютно точна, – ответил он. – Ни отец, ни мама никакого отношения к евреям не имеют.
– Согласен, – подхватил я. – По крови не имеют. Но ведь есть и другая строчка: «Откуда родом я? Я с некой сибирской станции Зима…»
– Ах, вот вы о чем! Ну да, Зима – это один из главных центров субботничества; многие жители считают там себя евреями. Но семья моей матери к субботникам отношения не имела, разве что моя тетка вышла замуж за субботника.
Этот разговор припомнился мне, когда в Интернете появилась публикация о том, что подлинным автором «Бабьего Яра» якобы является Юрий Влодов, а Евтушенко попросту украл у него это замечательное стихотворение.
Для любого, кто разбирается в поэзии, нелепость этой версии очевидна.
Во-первых, история написания «Бабьего Яра» известна до мельчайших подробностей. Во-вторых, вся поэтика этого стихотворения чисто евтушенковская; оно построено на консонансных и ассонансных рифмах, которые всегда были «коньком» Евтушенко, в то время как поэзия Влодова на 90–95% основана на классических рифмах и классических же поэтических размерах.
Впрочем, чтобы опровергнуть эту версию, достаточно было лишь вспомнить все ту же строчку – «Еврейской крови нет в крови моей…». Влодов эту строку написать не мог по определению: в нем текла еврейская кровь, и он этого не скрывал. А вот для Евтушенко она была естественной.
Разумеется, у нас, евреев, с Евтушенко связан свой сантимент. Сантимент настолько большой, что евреи, исповедующие так называемый реформистский иудаизм, включили его стихотворение «Бабий Яр» в свои молитвенники. Хотя, скажем честно, с поэтической точки зрения стихи эти слабые, вся их сила – в позиции автора. Есть у Евтушенко стихи на тему Катастрофы и посильнее – достаточно вспомнить «Пианиста» (Евгений Александрович уверял меня, что это стихотворение «документальное») или страшную и светлую главу «Диспетчер света» из «Братской ГЭС».
Может быть, еще и поэтому мы особенно болезненно относимся к любым попыткам навешать на него всех собак.
Вместе с тем не сомневаюсь, что в будущем еще не раз найдутся те, кто попытается замарать грязью его имя и принизить значение его творчества для русской и мировой поэзии. Само его желание быть похороненным неподалеку от Пастернака ему еще не раз поставят в вину, вновь все исказив и попытавшись представить дело так, будто он считал себя равным Борису Леонидовичу по поэтическому дару.
Хотя все понимают, что дело в другом: Евтушенко в истории с Пастернаком, в отличие от многих, выдержал экзамен на гражданское мужество и порядочность, и это было для него крайне важным.
Но не сомневаюсь также и в том, что еще немало влюбленных будут взахлеб читать «Любимая, спи…», «Качался старый дом, в хорал слагая скрипы», «Задунет ли ветер с деревьев сережку ольховую…» и многие другие стихи, которые по самому жесткому гамбургскому счету входят в золотой фонд мировой поэзии. Так же, как «Со мною вот что происходит…», «Мне снится старый друг…», как «Танки идут по Праге», «Голубой песец» и многие другие. Так же, как и многие его поэмы – «Братская ГЭС», «Казанский университет», «Голубь в Сантьяго», «Станция Зима», «Мама и нейтронная бомба», «Фуку». Согласен, многие страницы в них неравноценны, но многие и отмечены фантастическими поэтическими взлетами.
В той самой русской поэзии, где почетно остаться одной строчкой, Евтушенко, безусловно, останется емким и увесистым томиком, который, по меньшей мере, время от времени будут снимать с полки. Потому, что отдавая дань холодной изящности Цицерона, мы все же вновь и вновь перечитываем именно Апулея.
Так что до новой встречи, Евгений Александрович. На страницах зачитанных мною (и не только мною) сборников ваших стихов. Запачкать их не удастся. Как бы кому того ни хотелось…
Не заслуживающий объективности
К Евтушенко даже в моем поколении, не говоря о тех, кто уже не застал его оглушительной славы, принято было относиться с некоторой иронией – примерно так, как он изображен в шутковатом сериале «Таинственная страсть» по Аксенову, благодаря которому многие вообще вспомнили, а то и узнали о существовании этого поэта. Он и сам, что говорить, некоторыми своими стихами, да и поступками давал основания для подобного к себе отношения.
Евреи не имеют права на такую объективность. На весах, где сегодня взвешиваются его дела на небесах, одно его стихотворение перевесит всё. А на земле, где справедливости меньше, истинный вес того его Поступка для нас так до конца еще и не оценен.
Евтушенко не было еще и тридцати, когда он – молодой, успешный, обласканный властью, выездной, печатаемый миллионными тиражами, популярный, как поп-звезда, любимый публикой и женщинами особенно, – написал «Бабий Яр», прекрасно сознавая, чего ему это может стоить. Всего. Вот буквально всего этого. Один взмах начальственной руки – и все бы кончилось. По тем временам – абсолютно реальная перспектива.
Он был первым, кто прорвал плотину забвения, и долгое время оставался единственным в этой зияющей бреши.
Я помню, как папа пришел домой с тем номером «Литературной газеты» и, стоя посреди комнаты, читал нам с мамой «Бабий Яр» – сам поэт, он умел декламировать стихи, сам еврейский поэт, он выпевал каждую строку рвущимся сердцем.
Мне было десять. Я уже знал тогда, что мы евреи и что нас за это не любят – какие-то плохие мальчишки на улице, называвшие меня «жидом», когда я еще не знал, что это такое, и что надо с этим жить, но говорить об этом нельзя – вокруг другие, и им на это плевать. Но о Бабьем Яре, о Дрейфусе, о погромах, об Анне Франк я впервые узнал из стихотворения неведомого мне до той поры поэта с украинской, как у большинства наших соседей, фамилией – Евтушенко.
Сколько было таких, как я, – тогда и потом, – которым он открыл глаза, сколько было таких, как наши соседи, которым он бросил в лицо эту правду, неизвестную даже мне, еврейскому мальчику из украинского городка? Если бы существовало звание Праведника народов мира не только для тех, кто спасал евреев в годы Холокоста, Евтушенко был бы первым, кому полагалось оно в годы намеренного забвения. Такого звания нет, но осознание хотя бы быть должно.
Много лет назад я брал у него интервью в Иерусалиме, в гостинице «Царь Давид», для своей программы «Персона». С трепетом, конечно, что интервьюеру обычно вредит. На выезде, вне студии, снимала, как правило, бригада 2-го канала, то есть – объясняю для нездешних – общеизраильского, не «русского», на базе которого тогда выпускалась «Персона». Когда Евгений Александрович стал читать свои стихи – в свойственной ему манере, с несколько излишней для поэта артистичностью, – оператор Дани, всегда относившийся к моим русскоязычным собеседникам с подчеркнутой отстраненностью, чтобы не сказать равнодушием, которое я принимал за высокомерие, и потому его не любил, в паузе прошептал мне на ухо: «Это что – Евтушенко?». Он знал! Он узнал его!
И я почему-то возгордился – даже им. Всеми нами. Мы помним! Мы ему должны.
Уважаемые читатели!
Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:
старый сайт газеты.
А здесь Вы можете:
подписаться на газету,
приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,
а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство