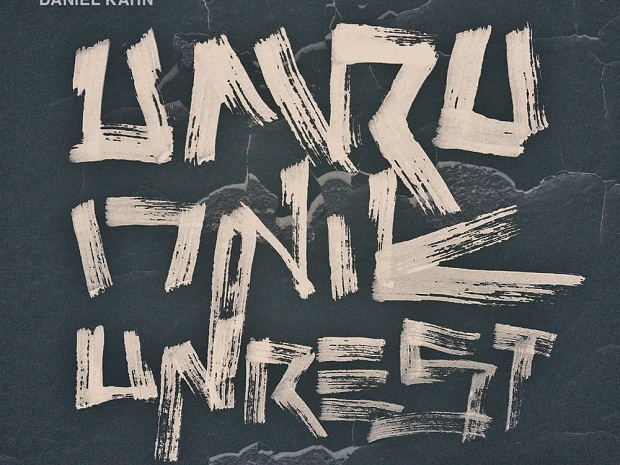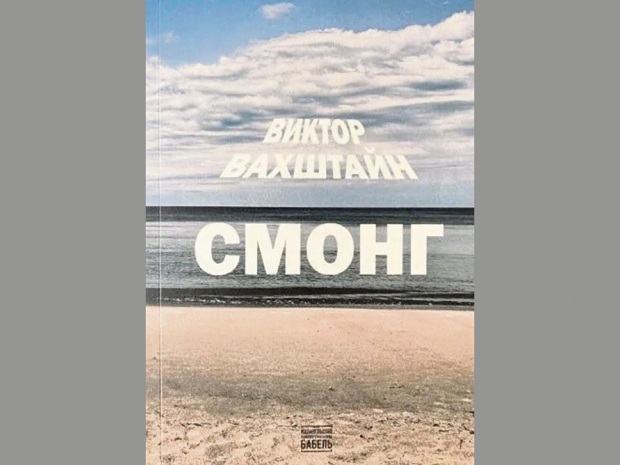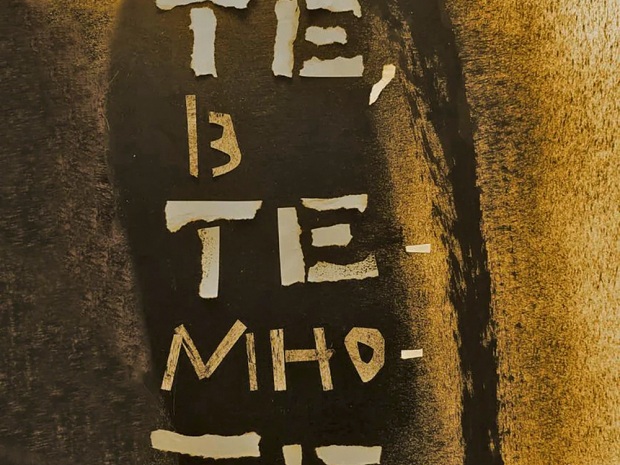«Культура – это колодец, а не клистир»
Беседа с композитором Владимиром Гениным

Владимир Генин© Wikipedia/artpages.org.ua
Владимир Генин (род. 31 марта 1958 г. в Москве) – российско-немецкий композитор, пианист и педагог, с 1997 г. проживает в Мюнхене. Его произведения исполняли симфонические оркестры, многочисленные камерные ансамбли и хоры в Европе, США и России, в том числе оркестры Grazer Philharmoniker и Teatro Comunale di Bologna под управлением Оксаны Лынив, Мариинского оперного театра и Rotterdams Philharmonic под управлением Валерия Гергиева, INSO Львова под управлением Валерия Протасова, The Menuhin Academy Soloists Schweiz. Они звучали на интернациональных фестивалях «Московская осень», Pietrasanta in concerto, MozArt и Contrasts во Львове и Serbia Music Festival. Его фортепианный цикл Seven Melodies for the Dial («Семь мелодий для циферблата», 2011) был исполнен в Concertgebouw Amsterdam, Mozarteum Salzburg, Münchner Philharmonie Gasteig, в Международном доме музыки и Театре им. Станиславского в Москве, а выпущенный в 2012 г. Challenge Records International (Нидерланды) диск был удостоен первого места в рейтинге журнала Piano News. Musiweb International присудил в 2015 г. титул «Диск месяца» его вокальному циклу Les Fleurs du Mal («Цветы зла») на стихи Бодлера, указав: «Есть те, кто утверждает, что современной музыке больше нечего сказать, но если вы хотите лишить этих людей дара речи, вы можете противопоставить их утверждению Les fleurs du Mal Владимира Генина». Словарь New Grove Dictionary of Music and Musicians посвятил статью творчеству Владимира Генина.
– Владимир, расскажите немного о своей родословной.
– О далеких предках не могу рассказать практически ничего. Моя внутренняя жизнь связана с дедом и отцом. Мой дед по маме, художник Иосиф Шпинель, родился в Белой Церкви, учился в Киеве, потом работал на Одесской киностудии и Киностудии им. Довженко в Киеве. Затем перебрался в Москву и на «Мосфильме» стал главным художником более чем 60 фильмов, в том числе «Александр Невский» и «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна. Мой отец, наоборот, был совершено «безродным» воспитанником военно-музыкальной школы. Поначалу был музыкантом-ударником, работал в Московском цирке, потом стал писать афоризмы, печататься, затем начал выступать. Во время перестройки с «Московским комсомольцем» и с журналом «Огонек» он объездил всю страну от Бреста до Калининграда, хотя первые выступления у него состоялись еще задолго до перестройки, когда всё было под запретом. Тогда он выступал в основном в закрытых НИИ, иногда вместе с Булатом Окуджавой. Мама моя, Елена Шпинель, могла бы стать замечательным музыкантом, но, как говорится, «пожертвовала собой ради семьи» и преподавала музыку в клубе и в детском саду. Ребенком она находилась в эвакуации в Алма-Ате и там занималась у очень хороших педагогов. Музыка много значила в моей семье, вот такая у меня наследственность.
– Теперь расскажите, пожалуйста, о вашей учебе в консерватории и карьере до переезда в Германию.
– Сначала я получал образование как пианист, потом меня на поступлении в Московскую консерваторию «завалили» на экзамене по истории СССР – это несмотря на мой диплом с отличием знаменитого Мерзляковского музучилища при консерватории. Меня допрашивали 40 минут по поводу доли Черноземья в СССР и других подобных вещей и влепили «неуд». Естественно, меня не взяли, хотя с прекрасно сданными остальными экзаменами я даже с «двойкой» набрал проходной балл. На том же экзамене «завалили» еще нескольких отличников нашего училища. После этого я решил, что не буду второй раз пытаться поступать на фортепианный и займусь тем, что мне всегда было гораздо больше по душе: композицией. С моими нервами непросто выходить на сцену. Хотя я до сих пор иногда и выступаю, это для меня что-то вроде подвига. По композиции и инструментовке у меня были великолепные педагоги. На меня очень сильно повлияло знакомство с Георгием Свиридовым, мы с ним много общались и, можно даже сказать, дружили, хотя часто спорили. Собственно говоря, наше с ним знакомство и началось со спора. В тот день в «Литературной газете» напечатали обличительную статью кого-то из «правых» – то ли Кожинова, то ли Куняева, и Свиридов стал пересказывать понравившуюся ему статью. Набравшись наглости, я сказал, что «статьи не читал, но думаю…», и называл написанное «пафосом Сальери». Мой педагог, который привел меня знакомиться со Свиридовым, был в ужасе и попытался меня остановить. Но Свиридов отослал его помогать жене на кухне, «чтобы не мешал знакомиться с молодым поколением».
– Можно ли говорить о том, что ваша карьера до эмиграции в ФРГ сложилась? Или вы считали, что достойны большего?
– Всегда можно достичь большего, если условия благоприятствуют, если есть связи – тогда появляется больше возможностей сделать значительное, «карьера» только для этого и важна. В России я писал много разной музыки, в том числе оркестровые и хоровые произведения. Когда Свиридов на какое-то время сделал меня своей «правой рукой», чего я совершенно не хотел, его приспешники из зависти изгнали меня из этой группы. В 1990 г. состоялось заседание комиссии по хоровой музыке Союза композиторов СССР, на котором ни я, ни Свиридов не присутствовали, но он потом послал мне стенограмму, прочитав которую, я ощутил душок 1930-х: люди, которых я считал своими друзьями, наговорили массу лжи. Смешнее всего было то, как вскоре один из них передо мной извинился: «Прости, друг: занесло!» У меня вообще пропало желание заглядывать в Союз композиторов. Все эти союзы были созданы в сталинское время для присмотра за творческими людьми. Но даже в мое время «молодежную» комиссию закрыли, когда мнение ее членов об одном из новых произведений резко разошлось с мнением другой комиссии.
– Когда вам впервые пришла мысль о том, что нужно уезжать?
– У меня никогда не было подобных мыслей. Нас агитировали ехать еще в начале 1970-х. Ни мои родители, ни мы, дети, этого не хотели. Наша семья не являлась по-настоящему диссидентской, но была свободомыслящей. Мой отец гордился тем, что не ходил на похороны Сталина, а мой дед, находясь в то время на съемках фильма в Албании, вообще послал бабушке 6 марта 1953 г. телеграмму: «Поздравляю». Он потом на голубом глазу говорил, что таким образом поздравил ее с 8 Марта. Во время Шестидневной войны 1967 г. мой дед явно был на стороне «израильской военщины». Я прекрасно помню реакцию своих родителей на советские танки в Праге в 1968-м. В это время мы были на даче и слушали «вражеские голоса». Родители были сильно взволнованы и удручены. А когда мне исполнилось 12 лет, старшая сестра начала активно снабжать меня запрещенной литературой.
– Когда же мысль об отъезде «материализовалась»?
– Я сопротивлялся до последнего. Мои родители уехали в Германию в 1995 г., а перед этим, в 1994-м, я вычеркнул себя из поданного ими в посольство ФРГ заявления и, конечно, рисковал тем, что это мне потом аукнется. Но, каким бы странным это ни показалось, больше всего на меня повлияла Чеченская война. Перед этим я прочитал роман Приставкина «Ночевала тучка золотая», и я не мог понять: эти люди, которые развязали войну, они что, полнейшие идиоты? Как можно было не понимать, что туда нельзя лезть? Чеченцев притесняли и убивали при царе, затем их депортировал Сталин, и теперь туда полезли те, кто называет себя демократами? Начало Чеченской войны был концом демократии, хотя я гораздо раньше – еще когда Ельцин после путча не распустил КГБ – понял, что кардинальных изменений не будет, но всё же это были годы тех или иных надежд. А с 1995-го у меня появилось абсолютно четкое представление о том, куда всё это покатится. Но основной движущей силой нашего отъезда стала моя жена-украинка. Моему приемному сыну грозила армия, да еще во время войны в Чечне. Как-то раз жена поехала в школу на родительское собрание сына (это был ее первый «выход в город» за полтора года после беременности) и вернулась в состоянии шока: в вагон метро вошли баркашовцы, молодые фашисты в черных куртках, которые начали ходить по рядам, тыкать в каждого и спрашивать: «Ты еврей?». Все молчали, опустив головы, и она себе представила, что было бы, если бы я находился в этом вагоне. Это стало последней каплей.
– Как вы прошли процесс адаптации в Германии?
– Конечно, была поддержка со стороны государства, а кроме того, у меня тут жили родители, которые помогали с дочкой, родившейся в 1995 г. У меня была совершенно четкая установка: попытаться обновиться и «поменять кожу». Мне было бы скучно жить, если б я знал, что будет. Мой первый брак рухнул, потому что я знал, что мне и за 20 лет не удастся что-то изменить в наших отношениях в лучшую сторону. Потом то же самое произошло и со страной. В Германии я сказал себе, что на все предложения я буду отвечать «да». Даже когда французская блокфлейтистка пригласила меня поехать с ней в турне по Нормандии и аккомпанировать ей на органе, хотя я никогда прежде на органе не играл. Для этой поездки мне нужно было написать сочинение, хотя до того я не писал ни для блокфлейты, ни для органа, да еще сразу дать название для афиши. И я сказал: ну, пуcть будет «Распавшаяся мозаика» – уж распавшуюся-то мозаику я всегда смогу сочинить. Всё это означает: отрезать себе путь к отступлению и начать работать.
– Можно сегодня ощущать себя евреем, живя в Германии?
– Конечно! Но я не могу себя ощущать «полноценным» евреем, потому что не знаю ни культуры, ни языка. В Германии евреями называют тех, кто исповедуют иудаизм. А «привязки» к крови меня всегда настораживали. Я всегда старался выйти за рамки жесткой идентификации себя и других людей. Это более архаическая форма восприятия, хотя и в ней есть свои плюсы: такая среда поддерживает человека. Когда он одинок, он очень многим рискует. Но я никогда не мог найти свое место ни в каких группах – ни в политических, ни в национальных, ни в эстетических (в том же Союзе композиторов). Я могу чем-то заинтересоваться, но единство единомышленников (я их называю «единомышечники») меня пугает. После путча 1991 г. я шел в толпе, скандировавшей «Пока мы едины, мы непобедимы», и не мог раскрыть рот. Не потому, что боялся. Я пытался, но чувствовал внутренний запрет на крик вместе со всеми. Для меня вся идентификация может быть только культурного плана. Жаль, что я не знаю еврейскую культуру лучше.
– Вы долго живете в Германии. Можно сказать, что вы каким-то образом «онемечились» или всё равно считаете себя частью русской культуры?
– Я, безусловно, «онемечился», но принадлежу к русской культуре по рождению и языку. Но даже живя в России, после периода увлечения Бердяевым и Шестовым я постарался уберечь себя от полного поглощения русской культурой. Из тех же самых побуждений: я хочу найти себя, свою точку зрения. Меня интересуют все культуры, и я жалею, что не могу воспринимать индийскую или арабскую музыку либо литературу на языках, которых я не знаю. Космополит для меня – самое высокое звание. Я очень люблю немецкую культуру – музыку, литературу и философию. Я много критикую и то, что происходит сейчас в Германии, но вижу и всё положительное. Не могу сказать, что мои корни в России. Для меня человек растет корнями вверх. Я старательно вытравливал из себя весь этот «русский миф», хотя миф всегда очень привлекателен: он позволяет творить внутри мифа и создавать значительные произведения, пока миф ограничивается искусством – как, например, у Вагнера в «Кольце нибелунга». Пока миф находится на службе y искусства, он оказывает грандиозное воздействие. Когда же миф подчиняет себе человека, вырывается и ступает на почву политики, он причиняет чудовищные разрушения.
– Вы произнесли слово «политика», и следующая часть нашей беседы будет касаться политики, потому что без нее обойтись невозможно. Почему среди русскоязычной диаспоры так много людей с пророссийскими взглядами, включая не только бывших жителей России?
– Дело в том, что в российском обществе есть многовековая традиция «вывихов», причем во всех слоях. «Глубинный народ» всегда был таким. Для меня интереснее вопрос: как могут стать пропутинцами вчерашние и позавчерашние диссиденты. Когда я узнаю от людей, что их родители, некогда пичкавшие своих детей литературой «самиздата», прельщаются «русской идеей» и становятся путинистами, меня это сильно беспокоит. Я думаю, многие не в состоянии отделить ностальгию по времени от ностальгии по каким-то другим вещам. Это ностальгия по молодости, и, когда говорят, например, о вкусном пломбире, то дело вовсе не в нем, а в молодости, когда прекрасно всё или почти всё.
– Но в последнее время в России есть большой запрос на эту ностальгию, причем он идет как «сверху», так и «снизу». Если посмотреть многочисленные российские сериалы, то там идеализируется СССР и показана прекрасная жизнь. Это такая осознанная политика – возвращать людей в то время и пытаться сказать, что тогда всё было идеально и бесконфликтно?
– Абсолютно верно. Реваншизм всегда базируется на том, что прошлое было лучше настоящего. То, что происходит сейчас, – это разворот к прошлому, по сути – экзистенциальный вопль «Мама, роди меня обратно!». Люди, которые боятся будущего, чужды любому развитию и идеям прогресса, поэтому, скажем, идеи политкорректности вызывают отторжение: не перегибы политкорректности, а само по себе уважительное отношение к другим людям и группам. Такое характерно для любого народа. Есть немецкое слово «Hinterland», которое стало употребляться и в английском языке, потому что эта глубинка и этот «глубинный народ» везде развернуты к прошлому. В нормальном обществе существует некий баланс между людьми, которые смотрят вперед, и теми, кто смотрит назад, а тут страшный перекос, и людей туда засасывает огромной трубой.
– В СССР существовал государственный и бытовой антисемитизм, да и в постсоветское время бытовой антисемитизм и ксенофобия никуда не исчезли, появилось понятие «лица кавказской национальности». Это политика государства–найти каких-то врагов, на которых можно списать все неудачи? Помните сталинское определение «враг народа»?
– При этом были градации: «враг народа» и «чуждый народу», в точности как у нацистов. Шостакович не был «врагом народа», нo являлся «чуждым народу». Рекламировался интернационализм, а под этой оберткой была жуткая ксенофобия – по всем фронтам, и ее можно найти у любого из нас, мы ведь выросли в этом обществе. Большинство мыслит категориями «свой – чужой». Я боюсь быть своим для какой-то группы людей или партии, потому что это принуждает к определенным действиям и определенным взглядам – иначе тебя сразу начинают упрекать в «нечеткости позиции» и «отклонении от линии».
– Сейчас идет дискуссия о «хороших» и «плохих» русских. Что вы думаете по поводу коллективной ответственности за войну, развязанную лично Путиным?
– Сегодняшняя политика России – это катастрофа, и не только для Украины, но и для РФ. Сформулирую парадоксально: коллективная вина существует только на уровне собственной совести. Какие-то копеечки в копилку этого монстра бросали мы все, мы жили там, мы работали, подчинялись этим законам, хотя я не могу сказать, что я когда-либо что-либо писал, за что мне сегодня стыдно. Но свой «Плач по Андрею Боголюбскому» я бы сегодня точно не стал писать, хотя для меня ключевым в этом сюжете было то, что народ князя якобы любил, но когда его убили, то сперва разграбил его имение, а потом начал лить слезы. О роли этого князя в истории Киевской Руси и о том, что он отдал Киев на разграбление, будто это был чужеземный город, я тогда ничего не читал, сконцентрировавшись на его уходе из Киева, на его роли в Суздальской Руси и его убийстве. Когда же говорят о коллективной ответственности, то она существует как наступление расплаты – последствие для тебя за действия того сообщества, к которому ты принадлежишь.
– В России в среде творческой интеллигенции очень мало людей, которые выступили против войны, либо уехали, выразив протест. Чем это вызвано?
– Это очень удобно во многих смыслах. Почему Прокофьев, который был известен в Европе, решил вернуться в СССР во времена Сталина? Ему была нужна огромная советская аудитория, он хотел писать для своего народа и завоевать эту аудиторию. А потом Прокофьев расхлебывал до самой смерти. Этo была расплата за такое решение – оставаться со своим народом.
– Это чистый прагматизм?
– У кого-то – страх, у кого-то – прагматизм, а кто-то действительно хочет пропихнуть эту «русскую идею». Мы не знаем, кто из наших кумиров прошлого мог бы оказаться на «той» стороне. Боюсь, почти что любой. У меня есть по данному поводу такая мысль: надо прожить жизнь так, чтобы тебе никто не смог предложить ту цену, за которую ты бы смог продаться. Наверняка меня можно было бы чем-то прельстить, но я стараюсь жить так, чтобы никому не пришло в голову попробовать.
– Новая эмиграция, вызванная нынешней войной, будет сильно отличаться от нашей волны?
– Я думаю, что каждая эмиграция несет на себе печать той причины и того времени, в котором произошел разрыв. Это такой моментальный снимок, который остается где-то в душé: в какое время человек уехал – во время Гражданской войны или был интернирован из какого-то лагеря во время Второй мировой. При этом я думаю, что люди-то одни и те же. Человек за свою историю мало меняется, и мы имеем гораздо больше общего друг с другом: хотя нам и кажется, что все мы очень разные, существуют какие-то базовые вещи. Я считаю, что среди этой эмиграции тоже будет полно «шушеры», но будут и очень честные и совестливые люди. Поляризация в ней будет гораздо сильнее, чем в наше время. Хотя я очень мало общаюсь с русской эмиграцией – у меня нет специальной потребности «общаться со своими». «Мои» люди – это те, кто мне нравятся, вот и всё. Эмиграция сама по себе выявляет какие-то вещи, которые в «прошлой» жизни не настолько были видны. То же касается дискуссий о «хороших русских» – для меня всё это совершенно неприемлемо по одной простой причине: как можно об этом говорить, когда еще ничего на закончилось? Мог ли кто-то в 1942 г. всерьез говорить о «хороших немцах»? Говорить об этом сейчас совершенно неуместно.
– Сегодня, когда мир стал глобальным, имеет значение, где человек живет?
– Если у человека есть деньги и он может работать независимо, то вряд ли важно, где он живет. Но важны условия, в которых он находится: может ли он спокойно вечером выходить на улицу или должен брать с собой автомат? Что касается россиян, то большинство моих знакомых покинуло Россию, но есть и те, кто продолжает там жить как в оккупации среди агрессивного свихнувшегося большинства. О выборе этих друзей не могу ничего сказать – для этого надо быть в их шкуре, а я точно не хотел бы в ней оказаться.
– Сейчас очень популярна тема «культура отмены». Можно ли «отменить» русскую культуру из-за российской агрессии?
– Это многослойная проблема, и есть несколько разных аспектов. Понятно, что «ветер» культуры дует в основном с Запада на Восток, и Россия всегда гораздо больше получала с Запада. Но русская культура вписана в мировую, поэтому она никуда оттуда не денется. Любая культура находится в диалоге с другими культурами. Как сможет кто-то «отменить» Достоевского, если на него опирались Ницше, Фрейд, Сартр и другие? Но есть и иной аспект: место русской культуры в нас самих. Мы любим ее и выросли на ней, но ее значение мы сильно преувеличиваем. Мы видим излишнюю ранимость, некую обиженность и желание навязать ее всему человечеству. Мы считаем, что это настолько уникально, что любой, кто не знаком с русской культурой, как бы вообще не человек. Это явный перебор в абсолютизации своего личного опыта. Культура – это колодец, а не клистир.
Третий аспект: любое государство радо представить миру достижения своей культуры, но в тоталитарных государствах выдающиеся представители культуры превращаются в послов воюющего государства (неважно, идет ли речь о «холодной» или «горячей» фазах войны), за которыми стоят функционеры, тайные службы, кровавые деньги и т. д. Как только человек становится статусной фигурой, за ним начинает стоять государство и штыки. Это проблема не Достоевского и Чайковского, а проблема нынешней России и людей, представляющих это государство. Неприятие культуры государства-агрессора – это прежде всего неприятие этих послов, кеми бы они ни были. К сожалению, есть те, кто принят Западом, несмотря на то что явно ведут двойную игру.
Это нормально, что в такие времена будут страдать и те, кто открыто выступает против Путина. Если же говорить о себе, то у меня стало намного меньше заказов, и это понятно. Но я рад, что возник такой спрос на украинскую музыку – она действительно и уже давно достойна того, чтобы ее наконец-то услышали. И я понимаю, что мне просто нужно потесниться.
Уважаемые читатели!
Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:
старый сайт газеты.
А здесь Вы можете:
подписаться на газету,
приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,
а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство