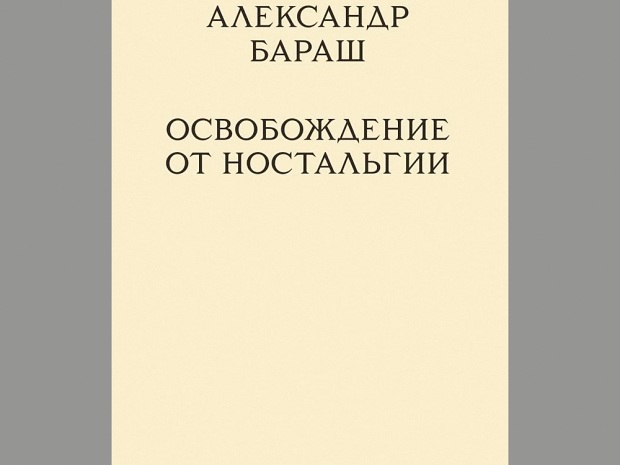«Всех живущих прижизненный друг…»
130 лет назад родился Осип Мандельштам

О. Мандельштам, фото НКВД, 1938 г.
Казалось бы, милейший человек, с высочайшим уровнем интеллекта. Знаток древних языков или потенциально любого языка, в первую очередь – человеческого. Чудак, в зрелом возрасте, но измотанный голодом и бездомьем, вдруг принялся изучать староитальянский (тот, на котором Данте писал «Божественную комедию», именно с целью прочесть Данте в оригинале) и полез в дебри раннего Возрождения, чтобы понять, что это за девять кругов Ада, а сам в то же угрюмое время проходит «десятый круг» собственной жизни. Он, интеллигент, петербургский дворянин по духу, по культуре, иудей по способу мышления, католик по мироощущению. Ну, не от мира сего, и что ж – категорически отверг с приходом большевиков белую эмиграцию, поскольку «с миром державным был лишь ребячески связан» и разделял позицию Ахматовой и других акмеистов, никуда не уехавших от революционной мерзости. Хотя и, прозорливец, знал-догадывался, что не спрятаться ему «от великой муры за извозчичью спину Москвы», и отмечал уже совершенно безнадежно, «что в Петербурге жить, словно спать в гробу». Но все-таки ему хотелось приладиться к советскому быту, к новой жизни (столь отличной от старой, милой, дореволюционной).
«Мне надо жить, дыша и большевея...» Да как жить-то, когда очумелый чекист-еврей стихоплет Блюмкин гоняется за ним с маузером, другой – литератор А. Горенфельд обвиняет его в плагиате (Его! В плагиате!), третий – «советский граф» Алексей Толстой – учиняет над ним судилище и получает от Осипа Эмильевича легкую, символическую, можно сказать, пощечину, потому что на «затрещину» он не был способен.
С этого эпизода, собственно, и начинается великая эпопея Надежды Яковлевны Мандельштам «Воспоминания. Том 1-й». В начале 1970-х по Москве ходил самиздат: четыре фотокопированных томика «Н. М. Восп.». Читать их без волнения нельзя было. Они – для меня – отодвинули многие тома совковой литературы, упершись только в Олешу и Платонова...
Умный, удачливый и бесспорно эпохальный Илья Эренбург всуе назвал свою жизнь собачьей. Эту «честь», принадлежавшую ему по праву, он отнял у Мандельштама. «Было нищее величье и задерганная честь», – напишет много лет спустя Арсений Тарковский, забыв обиду на великого поэта, который выгнал его и еще двоих «графоманов» из дому с криком: «А Сафо печатали? А Христа печатали?»
Гений бывал вспыльчивым. Его с удовольствием терпели многие: Мария Петровых, Ахматова, биолог Кузин, Виктор Шкловский, подаривший «воронью шубу» в одну из зим трескучих 1930-х. А вечно занятой, закрученный и замороченный Исаак Эммануилыч Бабель нашел время (в городе-Вие, Киеве), чтобы трудоустроить, пристроить то ли сценаристом, то ли редактором на Кинофабрику – его, не имевшего к кино никакого отношения. Людей, принимавших в нем участие, было немало. Но уже с конца 1920-х над ним довлеет опала державной власти, рапповская и пролеткультовская критика. А где же были «Серапионы», «Перевальцы», на худой конец?.. Со своими бедами.
И вот он, милейший поэт-акмеист – становится героем страшной легенды. Суть ее в следующем. Тиран-книгочей по кличке Коба зашел как-то в домашнюю библиотеку придворного поэта Демьяна Бедного (Придворова) и взял почитать какую-то книгу, возможно, редчайшую. Книгу тиран долго не возвращал и вернул наконец испуганному Демьяну. Но оставил на ней пару жирных отпечатков пальцев (!)... Возмущенный Бедный не удержался, рассказал кому-то из писателей (шепотом, пугливо), какая, дескать, свинья этот Коба... Из узкого круга «кремлевская тайна» вылетела в более широкий круг и попала уже как метафора в стихи Осипа Мандельштама «Мы живем, под собою не чуя страны»:
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища...
Можно себе представить, какое злобно-хищное выражение лица появилось у «дракоши», когда он начал читать сей опус, доставленный ему сотрудниками НКВД (а именно – товарищем Яковом Аграновым, другом многих писателей и поэтов, называвших его Яшенька). Особенно, когда дошел до «жирных пальцев», покраснел до ушей, сплюнул, заново набил трубку, пробормотал сквозь зубы: «Каков мэрзавец, однако, откуда ему это известно? Смельчак. Акмэист!» Попросил связать его с Борисом Пастернаком. Допытывался: «Ну, он мастер, мастер?» С перепугу, оторопевший от самого факта звонка, Пастернак невпопад отвечал, что, дескать, не в этом дело, что давно мечтает встретиться и поговорить о главном: о жизни и смерти. (И в этом Пастернак был прав! Жизнь была очень важна, а смерть – как на войне, в двух шагах.)
Все, кто слышал из уст О. М. «эти» стихи, пугались до смерти, считали поэта ненормальным и, вероятно, понимали, что его ждет. Есть свидетельства, что Борис Пастернак, которому Осип прочел эти стихи наедине, далеко за городом, где никто их не мог слышать, смущенно проговорил: «Это акт самоубийства, не имеющий к поэзии никакого отношения... Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал. И прошу вас, Осип Эмильевич, никому их больше не читать...» Но тех, кто слышал стихи, набиралось с десяток: Георгий Шенгели, молодой тогда Семен Липкин, Мария Петровых и, конечно, Анна Ахматова и еще несколько человек... Но О. М. не мог не написать этих стихов, и не было сил молчать... Крах!
Пока что на деле О. Э. Мандельштама появилась размашистая надпись тирана: «Изолировать, но сохранить!», подобно той исторической, императорской, казуистической резолюции «Казнить нельзя помиловать» (из эпохи царя Александра III). Можно предположить, что тиран, любитель стихов и публичных казней, выучил наизусть это сочинение Мандельштама и временами, наедине с собой, цитировал, проговаривал:
Что ни казнь у него, то малина,
И широкая грудь осетина...
Писатель Фазиль Искандер даже предположил, что тирану стихи нравились.
Неужели эта поистине свифтовская сатира не могла сдержать державный гнев его на оппозицию (какая уж там оппозиция в 1934-м?), на народ, почитавший его божеством? («Бог ехал в пяти машинах...» Б. Слуцкий). Ведь что-то должно было быть в нем человеческого. Возможно, О. М. наивно полагал, что сатира служит к исправлению нравов; увы, нет! (В фильме Михаила Калика «И возвращается ветер» есть гулаговский эпизод: 5 марта 1953 г. в одном из Энских лагерей «кум», начальник лагеря, объявляет заключенным о смерти «отца всех народов великой страны». Один из зэков (крупный план!) не может удержаться и орет: «Ус, бла, копыта откинул!.. Е-мое!» Еще говорили: «Рябой сдох!», «Отец дуба врезал»... Зело крепок народный язык.)
Казнь Мандельштама была временно отсрочена. Заменена ссылкой на Чердынь, а потом в Воронеж. «Воронежские тетради» О. М., по мнению литературоведа Павла Нерлера, стали в творчестве поэта тем, чем была «Болдинская осень» у Пушкина. «Но поразительно! Воронежский период – время высочайшей творческой активности. Четверть всего, что написал Мандельштам, приходится на воронежские годы. Болдинская осень. Тут, правда, надо учесть особенность дарования – Мандельштам не мог писать одновременно стихи и прозу. Сесть за прозу в Воронеже не получалось. И рождались стихи...» («Русский глобус», 2004, № 7).
Лет сорок назад лишь узкий круг литературоведов («мандельштамоведов» еще не было, кроме разве что Эммы Герштейн – лермонтоведки, Лидии Гинзбург, американца Струве да самой Надежды Яковлевны) смог бы объяснить, в чем достоинство «Воронежского цикла» перед «Камнем», первой книгой О. М., или перед «Тристиями» – печальной лирикой конца 1910-х. Неужели «Я не увижу знаменитой Федры», «Я изучил науку расставанья...», «Вернись в смесительное лоно...» и другие гениальные вещи зрелого мастера уступали грубоватым, «неотесанным» стансам, созданным «во глубине» черноземной российской глубинки. Да, О. М. как бы отряхнул с себя всевозможные поэтические кунштюки, сложные цепочки ассоциативных рядов, реминисцентных намеков и прямых историко-литературных украшений, как будто готовился к последнему творческому акту:
Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой.
Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота...
Это писано в 1931-м, лет за семь до гибели поэта во Владивостоке, в пересыльном лагере 27 декабря 1938 г. По одной из версий, его утопили в гальюне («мешал спать» зекам, орал стихи, спятивши).
И это судьба «чемпиона поэтов» Серебряного века! По легенде, А. Блок сказал, что одного Мандельштама хватило бы на весь XX век. В середине 1980-х я был свидетелем нарастающего вала любви и интереса к О. М. На круизном пароходе «Циолковский», шедшем по линии «Москва–Кижи» (по Беломорканалу), одна моя старая приятельница, кандидат филологии Ирина М., допытывалась, кто, по моему мнению, бóльшая величина в поэзии российской: Блок или Мандельштам. «Ну, помилуйте, Ира, трудно сравнивать, О. М. был просто изъят из литературы, но и по масштабам тем и глубине лиро-эпической поэзии, безусловно, Блок!» Она огорчалась, спорила.
Спустя более четверти века, сегодня, здесь, в Израиле, я понимаю, что Осип Эмильевич Мандельштам – один из величайших поэтов в мировой Поэзии. Почему он в свое время был «задвинут» в самый дальний угол литературы и самой жизни, он объяснил провидчески в своем бессмертном стихотворении:
За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав...
(Тут спазмы слегка схватывают горло и надо хлебнуть вина или валерьянки.) Как мог я отрицать приоритет О. М. перед Блоком, если сидел и целый месяц перепечатывал самиздатовский сборник поэта, состоящий из полутора сотен стихов? Совковая зашоренность или утвердившееся за много десятилетий «величие» Блока? Не в этом суть. Осипа Мандельштама хватит и на весь ХХI век!
Уважаемые читатели!
Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:
старый сайт газеты.
А здесь Вы можете:
подписаться на газету,
приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,
а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство