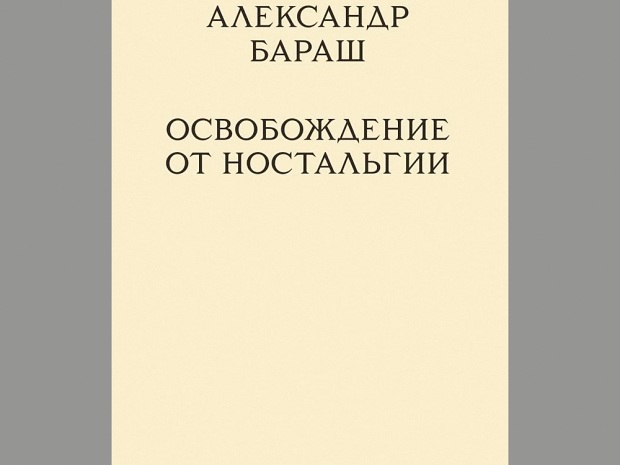Поэт о поэтах

Анатолий Добрович, Игорь Губерман и Юлий Ким
Русская поэзия живет не только в Москве, Питере и других городах государства Российского, но и далеко за его пределами, где по миру рассеяны бывшие россияне, оставшиеся носителями русского языка и культуры. К числу таких центров этой культуры относится Израиль с его миллионом евреев – выходцев из постсоветского пространства. Русский стих живет здесь во всей изощренности давней традиции – от Серебряного века до нынешних поэтических ристалищ.
Вот два израильских поэта – Анатолий Добрович и Александр Верник. Оба они совершили алию – один более 30, а другой более 40 лет назад, и с той поры обитают на Святой земле, меняя профессиональные занятия, но оставаясь русскими поэтами, живущими, дышащими поэзией, не только пишущими превосходные стихи, но и тонко анализирующими творчество как близких, так и дальних пиитов. Мы предлагаем вниманию читателей «ЕП» два эссе Анатолия Добровича, посвященных творчеству Александра Верника и Осипа Мандельштама.
Александр Верник: «Сад над бездной»
В стихах Александра Верника господствуют разговорная речь и интонация естественной беседы (вопрос, утверждение, сомнение, недоумение, протест, ирония, грубость, ласковость – все, что свойственно живому общению). Но почти после каждого стихотворения внутри вас остается некая вибрация. И вы понимаете, что разговорный тон – это мнимость, а за ним проступает переживание, не переводимое на язык обыденного мировосприятия и говорения.
«Долгие проводы – лишние слезы, / летние туфли по снегу елозят, / ближневосточной грязи. / Господи, пронеси…» Почему возникает ком в горле? Тексты, вообще говоря, сравнимы с веществом: оно может быть твердым телом, жидкостью, газом. Но когда речь идет о подлинной поэзии – это плазма. Плазма производится в космосе (один из ее доступных зрению обликов – северное сияние), а здесь, на Земле, она создается и удерживается особыми стараниями физиков, то есть складывается не сама по себе. Вот и поэзия Александра Верника существует как бы не сама по себе, а под влиянием малопонятных обстоятельств, которые мы называем талантом; черт его знает, может, и талант имеет космическое происхождение?
Поэт, конечно, управляет своей речью, но процесс стихосложения его ли собственной воле подчиняется? Одно из свойств плазмы – свечение. Свечение стихов Верника пронизывает меня уже три десятилетия и не ослабевает со временем.
Поэтому, когда поэт Юрий Колкер создает электронное факсимиле книги своего друга, поэта Верника «Сад над бездной», нет смысла спрашивать, когда она вышла в бумажном виде. Когда бы ни вышла, она продолжает волновать. Почти все эти стихи я помню наизусть. И не знаю, как объяснить их магию. Возьму для примера стихотворение «Романс» (целиком):
Полет ночной, спаси аэроплан!
Небес развертка в пятнах маскхалата,
но самолету чудится Монблан
в роскошествах восточного заката.
В округлостях холмов сокрыт обман,
ищите женщину. Она не виновата.
Столь резок переход от света к тьме,
что самолету кажется вполне
бездарной песня о друзьях-пилотах.
Он знает, что пилота не спасти,
и по ночам, когда находит стих,
гудит романс о смерти самолета.
Приемничек расхлябанно поет,
наследие британского мандата.
А мальчик собирается в полет,
он подтвердил: она не виновата.
Его, по тексту, точно в пять убьет.
Таков романс. Ночной полет, расплата,
кремнистый путь, холодная рука
и на погонах крылья мотылька.
Эти стихи не отпускают, боль в них неподдельна, а речь близка к обыденной. На мой взгляд, здесь «весь Верник»: он не разрешает себе патетики и постоянно готов к самоиронии. При этом позволяет слетаться в стаю неконтролируемым ассоциациям и подвергает их таинственному отбору (один из критериев отбора: банальности недопустимы). И вот автор, летчик, самолет и полет сливаются воедино. Кто гудит, на кого находит стих, кому кого спасать, кому что видится либо чудится – ну ясно же. Если уточнять, провалимся в прозу, а здесь – стихи, и более того, романс – жанр, отбрасывающий свой отсвет на говоримое. Отсвет, зловеще контрастирующий с гибелью мальчика, на чьих погонах крылья мотылька. Песня о друзьях-пилотах перед лицом этой неотвратимой гибели – дежурная пошлость, и самолету с поющим радиоприемником, наследием британского мандата, она справедливо кажется вполне бездарной. За округлостями холмов мальчику мерещится женщина, но вслед за ироническим «ищите женщину» исходный смысл этого выражения отрицается. Она не виновата ни в глазах летчика, у которого, может быть, и женщины-то еще не было, ни как повод отправиться в боевой полет над обманчивой буколичностью холмов при закате, в пятнах маскхалата, ни как причина предстоящей гибели пилота: причина эта далека от романтических сфер. «Он подтвердил, она не виновата» – он был предназначен для любви, не для гибели. Его смерть – расплата за независимость страны его народа. А кремнистый путь… Это ведь из культуры другого народа. Намекает ли поэт на то, что летчик – выходец из страны, где читают Лермонтова?
Или кремнистый путь для русского литератора – привычный символ душевной чистоты, одиночества и отваги? Но он и для нас, русскочитающих, такой же символ – выходит, мы поняли друг друга… Его по тексту точно в пять убьет. Убьет взаправду, не «по тексту» – как бы не так. Однако ж перед вами романс, вот и соединяйте сами текст с реальностью.
Смотрите-ка, я, почитатель Александра Верника, наговорил об этом стихотворении с три короба. И что? Охватил ли я хотя бы часть вызываемых им ассоциаций? Но сколько бы и кто бы о нем ни говорил, воспроизвести его свечение не удастся. Потому что взаиморасположение в нем слов и звуков обусловлено ионизированным пространством поэтической плазмы. Стихи остается лишь перечитывать, про себя и вслух. От повторения они не тускнеют.
Александр Верник стихи не пишет, а записывает. После того как они сложились и получили одобрение в голове. Все решает взаиморасположение смыслов и даже звучаний. Помню, он допустил меня к этому процессу расстановки слов в пространстве, когда я обсуждал с ним начало стихотворения «Дом»: «Не по холоду плачь, не по холоду, / а по молодому голосу своему». Оказывается, в усиливающих друг друга созвучиях «холо», «моло», «голо» он уловил нечто неотменимое. Почему? Это не вопрос. Поэту видней. Он понял, что надо так, а не иначе. И стихи состоялись. Он, среди прочего, виртуоз интонации. У него любовное стихотворение может начинаться так:
Стрекоза ночная (а бывает!).
И одежка по углам летала.
Почему-то я покорен этим «а бывает». Нет смысла пускаться в объяснения.
В случае Верника талант талантом, а вдобавок перед нами и личность, какую поискать. В стихах (впрочем, как и в дружеской беседе) он искренен до беспомощности, до незащищенности. Изысканный интеллектуал, мудрый готовностью усомниться в себе, прикрыться самоиронией. Яркий, сложный, многомерный собеседник, не лишенный при этом – верите ли? – юношеской застенчивости. Человек мужественного склада, умеющий быть решительным, но способный уступить, пересмотреть, поддаться порыву. Ставящий понимание и сопереживание выше надуманных абстракций. Вся эта личностная «материя» безусловно определяет смысл и тон сочиняемого, будь то его стихи или проза. Он остро нуждается в высказывании – порой в жалобе, в протесте, в возгласе муки или счастья, но филологическая эрудиция и редкое знание поэзии (кого только не читает наизусть!) не позволяют ему вольничать, допускать суесловие, мириться с какой бы то ни было подражательностью.
Мне не поднять руки – мешает знанье.
Мне слова не сказать – мешает ремесло.
Мастер, одолеваемый сомнениями, не дающий себе спуску, он по-настоящему страдает, когда не пишется. Мы с ним друзья, я знаю. Но этот прыгун в высоту не допустит снижения планки. И не в амбициях тут дело, а вот в чем: «лишь бы прыгнуть» ему глубоко неинтересно. Не в бирюльки играем. Либо поэзия требуемого уровня, либо молчок.
Молодым харьковчанином он входил в окружение Бориса Чичибабина, но относить его к «ученикам» поэта – натяжка. В каком-то смысле все пишущие – ученики тех, кто в прошлом прославился в литературе, но Верник даже в ранних стихах не был похож на обожаемого им Бориса Алексеевича. Зато дружба между ними только росла с годами, хотя поначалу Чичибабин не одобрял отъезд Александра в Израиль (1978 г. ). Впоследствии он гостил у Верника в Иерусалиме и искренне полюбил нашу страну.
Александр же побывал в ней и сторожем, и солдатом-резервистом, и государственным служащим, и сотрудником «Сохнута»…
Но остался в первую очередь русским поэтом, вызывающим восхищение читателей. Изданные им три стихотворных сборника разошлись мгновенно. Автор раздаривал свои экземпляры так щедро, что едва ли у самого сохранились все три.
Иерусалим стал его подлинным, естественным и любимым домом. Это и есть его «сад над бездной» – и в переносном, и в буквальном смысле. Он не мыслит себе жизни в другом месте.
Российские просторы мне не снятся,
меня пугают долгие срока –
уйти в запой примерно в восемнадцать,
опохмелиться после сорока.
И все же языковое и ментальное родство со страной исхода нет-нет, а дает о себе знать, и на поэта находит грусть по утраченному. Иногда он словно просыпается не в том месте, где засыпал, и ему не хватает привычных вещей, вплоть до «чахлого клена».
Видать, в облюбованной Богом стране
что-то не больно можется мне.
Все остальное – больно.
Он не скрывает этого ни от себя, ни от читателя. Он вообще правдив и по складу души открыт трагической стороне жизни. Есть тягость бытия, наплыв разочарования, морока болезней, жуть ухода близких, непроходящая вражда народов на Ближнем Востоке.
Ему приходит в голову:
Было б разумно не жить вполне.
Впрочем, живу добровольно.
Его выбор:
Расплакаться и вновь пуститься жить
мучительно, прекрасно, бесполезно.
Поэтический голос Верника для меня – полнозвучие меланхолической виолончели. А читателя, открывшего по ссылке «Сад над бездной», ждут совершенно удивительные стихи. О любви и оставленности. О неуютном устройстве мира. О том, как он прекрасен. О жалости к себе и насмешке над собой. О странных животных, населяющих «Живой уголок». Об искусстве поэзии и противостоянии мраку. О судьбе поэта, который числится чиновником. О нежности к близким, к женщинам, к друзьям…
Да неважно, в сущности, о чем: это яркие щемящие стихи с непредсказуемой образной системой и лексикой, с волнами эха в ответ на возглас, который поэт обращает на все четыре стороны.
И я по-настоящему рад за тех любителей поэзии, для кого эта книга окажется в новинку.
Воронеж Мандельштама
Надежда Яковлевна Мандельштам в книге воспоминаний «Время и судьбы» предпринимает беспощадный и неоспоримый анализ бытовой и нравственной атмосферы, сложившейся в стране в последние, «милостиво подаренные» поэту, годы жизни в воронежской ссылке. Оглядываясь на эти годы, на душевные и физические муки надломленного преследованиями О. М., она рисует глубоко осмысленное, из самого сердца поднимающееся противостояние его личности текущей вокруг жизни, полной страха, покорности и готовности к предательству.
Читатель (хотя, надо думать, не каждый) мысленно солидаризируется с поэтом и его «подругой-нищенкой», живущими в предчувствии расправы и «в роскошной нищете», но сохраняющими духовную независимость, достоинство хранителей мировой культуры и верность идеалам свободолюбивого «четвертого сословья», еще на их памяти заявлявшего о себе в России. Воссоздаваемая Надеждой Яковлевной трагическая картина не оставляет сомнений в своей подлинности. Однако при чтении ее книги начинаешь невольно припоминать воронежские стихи О. М., потом открываешь их, чтобы перечитать, и…тема противостояния поэта государственной машине и упадку гражданственности оказывается не столь однозначной, как виделось поначалу.
Держать в себе оборону против злодействующей и будящей в людях низменные побуждения власти – едва ли не инстинктивная позиция О. М., человека, приходящего в раздражение (до неистовства) от любой лжи и тупости. Но если попытаться выделить сильнейшее чувство, то и дело, питающее его поэтическое вдохновение в воронежском цикле, – это не гнев, не пафос мученичества, не стон скорби, не горечь, не уязвленное достоинство, не презрение к палачам. Согласитесь ли вы, читатель? – это… восторг. В первом же стихотворении, описывающем чернозем, как никем и никогда он воспринят не был, читателю передается счастье поэта, как бы встретившего родное существо, с которым его раньше разделяли непреодолимые обстоятельства и пространства. Это в самом точном смысле слова встреча «провиденциальная», взрывающая в душе глубинные ассоциации. Никто, кроме Мандельштама, не открыл бы в «комочках влажных» чернозема «тысячехолмия распаханной молвы» – здесь интуиция объединяет его с поколениями пахарей, безотчетно творивших язык. Здесь проявляется присущая ему любовь к «великому племени людей», к планетарному человеку. Восторженность переживания, как всегда у О. М., уравновешивается феноменальной чуткостью к диссонирующим реалиям. Надо быть Мандельштамом, чтобы запахи почвы передать в слуховой модальности: «Гниющей флейтою настраживает слух, / Кларнетом утренним зазябливает ухо».
Но откуда в этакой яме («И потому эта улица, / Или, верней, эта яма, / Так и зовется по имени / Этого Мандельштама») – счастье? И какова его природа? Беру на себя смелость утверждать: это счастье обретения почвы…Оглушительное переживание для человека, которому больно жить, «под собою не чуя страны». Но вот он вдруг почуял ее, и тот же восторг звучит в следующем стихотворении цикла:
Я должен жить, хотя я дважды умер,
А город от воды ополоумел:
Как он хорош, как весел, как скуласт,
Как на лемех приятен жирный пласт,
Как степь лежит в апрельском провороте,
А небо, небо – твой Буонаротти...
Как не жить, когда такое творится! За этой радостью обретения почвы мне видится, помимо всего, и преодоление горького еврейского чувства бездомности, вообще, нередко возникающего в стихах О. М. В «черноземе», как и в «новгородском колодце» (где вода «должна быть черна и сладима» – из другого стихотворения), ему открывается родная земля, которой так недостаёт. Бездомность О. М. проистекает не только из его душевного склада, отвергающего советчину как кошмар «кровавых костей в колесе». В этом сказывается также безродность Агасфера, вечно ищущего, к чему бы припасть душой, но при этом не утратить независимости. Психологически оправданный выход из этой ситуации – именно любовь к человеку вообще: к тому человеку, который «Почтит невольно чужестранца, / Как полубога, буйством танца / На берегах великих рек». Воспевать «в колыбели праарийской / Германский и славянский лён» и в самом деле характерно для еврея. Ему страстно хочется, чтобы его речь «полюбили» (пусть даже «за привкус несчастья и дыма»), а его самого «запихнули, как шапку в рукав», т. е. сделали окончательно своим. Еврей, лишенный почвы (понятно, к Хаиму-Нахману Бялику, Натану Альтерману или Ури-Цви Гринбергу это уже не относится), – а иначе говоря, еврей Рассеяния, – пестует в себе любовь к окружающим, веря, что это вызовет ответную любовь.
Возможно, вследствие этого он выглядит жалким в глазах иных представителей титульных наций, которым родина досталась даром. Но в ситуации О. М. (и тысяч других, включая, скажем, Пауля Целана) чувство безродности, бездомности скорее трагично. И попытка его преодоления, подлинного или иллюзорного, вызывает к жизни особую логику душевного порыва к единению с реальными людьми в их реальной жизни. В самом деле, возвращенная поэту в Воронеже «почва» – это ведь действительность советская, та, какая есть. А значит, в ней предстоит не просто жить:
Я должен жить, дыша и большевея,
И перед смертью хорошея –
Еще побыть и поиграть с людьми!
Разве не понятен жаркий соблазн – стать братом братьям? Входить в действительность, «как в колхоз идет единоличник»? Почувствовать себя «переогромленным»? Разве непонятно, чего именно поэту хотелось бы при воспоминании о Каме, по которой они плыли с женой из ссылки в ссылку? Вот чего:
И хотелось бы гору с костром отслоить,
Да едва успеваешь леса посолить.
И хотелось бы тут же вселиться, пойми,
В долговечный Урал, населенный людьми,
И хотелось бы эту безумную гладь
В долгополой шинели беречь, охранять.
Какой голод по родине, по теплоте живого, дышащего человеческого сообщества! Не то же ли это желание, что и у Пастернака: «Труда со всеми сообща / И заодно с правопорядком». Пастернак обомлевает от детишек новой поры; а как бы мог пройти мимо них зажигающийся любовью Мандельштам?
Еще мы жизнью полны в высшей мере,
Еще гуляют в городах Союза
Из мотыльковых, лапчатых материй
Китайчатые платьица и блузы.
Еще машинка номер первый едко
Каштановые собирает взятки,
И падают на чистую салфетку
Разумные, густеющие прядки.
Еще стрижей довольно и касаток,
Еще комета нас не очумила,
И пишут звездоносно и хвостато
Толковые, лиловые чернила.
Порыв любви захлестывает. Дело доходит не только до упоения фильмом «Чапаев». Или радиовестями о строящемся в Москве метро. Или советскими городами («Как новгородский гость Садко, / Под синим морем глубоко, / Гуди протяжно в глубь веков, / Гудок советских городов»). Дело доходит до восторга перед всеобщим кумиром – вождем (тем самым, суть которого, казалось бы, уже была запечатлена поэтом в смертоносных для него строках о «кремлевском горце»!).
…И ласкала меня и сверлила
Со стены этих глаз журьба.
Много скрыто дел предстоящих
В наших летчиках и жнецах,
И в товарищах реках и чащах,
И в товарищах городах...
…И к нему, в его сердцевину
Я без пропуска в Кремль вошел,
Разорвав расстояний холстину,
Головою повинной тяжел...
Не скрою, меня несколько озадачивает то, что в воспоминаниях Н. Я. эти особенности душевного состояния О. М. не упомянуты. Видимо, они не укладываются в ее общую концепцию. У меня нет сомнения, что среди мандельштамоведов (хотя я «ведов» читаю нечасто, но мне так представляется) попадаются и те, которые убеждены, что О. М. пытался подобными стихами приладиться к советской действительности, а может, и на публикации рассчитывал. То, как я чувствую Мандельштама, исключает подобный ход мысли. Я не сомневаюсь в его искренности. Здесь нет двуличия – есть многослойность мировосприятия. Таким вот был один из его экзистенциальных пластов («Как на лемех приятен жирный пласт!»). Но обретение почвы то и дело оказывалось обманчивым. А в конечном счете, почву просто выбивали из-под ног. Вероятно, это было неизбежно – и не только из-за нищенского быта и постоянного надзора НКВД.
Суть дела также в европейскости, а лучше сказать – всемирности Мандельштама. Как носитель культуры он не укладывался в пейзаж Черноземья, сколь бы радостным ни оказалось для поэта его обретение. Хотелось моря – тоска по нему звучит в нескольких стихотворениях цикла. Душа, «как жалости и милости», просила Италии, Франции. Море и европейские холмы притягивали поэта не только сами по себе, они выступали для него как символы свободы – свободы космической, выходящей за какие бы то ни было границы. Свободы, без которой художник лишается драгоценного сознания своей правоты. И Мандельштам то и дело проваливался в другой слой своего бытия – в отчаянье. За строками некоторых стихов буквально слышится вой.
…И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке –
А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб:
– Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей разговора б!
Самое же удивительное – то, что он сумел вырвать эту неземную свободу в обстоятельствах, в которых, казалось бы, и помыслить о ней невозможно. Такие шедевры, как «За Паганини длиннопалым», «Улыбнись, ягненок гневный», «Не сравнивай: живущий несравним» или «Вооруженный зреньем узких ос», написаны в космосе и светят нам из космоса. Это то, что пребудет, пока жив язык, на котором сочинено. «Большевея», такого не напишешь.
Мандельштам воронежской ссылки – он то в поле или в городе, в неотменимой реальности, где ему временами хотелось бы сродниться с людьми общего языка, то – оп! – и нет его. Выскочил на околоземную орбиту. И венчают только что выстроенный нами ряд «Стихи о неизвестном солдате» – воистину особая планета в космосе филологии, к которой впору зонды посылать. Загадка необычайных образов этого произведения худо-бедно разгадке поддается; неразрешима другая загадка: как такое приходило в голову человеку, подобному нам, одному из нас? Да полно: одной ли он с нами «крови»? Окажись он инопланетянином из фантастических романов – тогда другое дело: этому читать будущее все равно, что нам – прошлое; этот глядит и видит то, что нашему взору в принципе не доступно (запредельная для нас часть спектра). Немедленно перечитайте, если плохо помните эти стихи! Не говорите «ничего не понял» – думаете, кто-то другой все понял?
Уважаемые читатели!
Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:
старый сайт газеты.
А здесь Вы можете:
подписаться на газету,
приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,
а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство