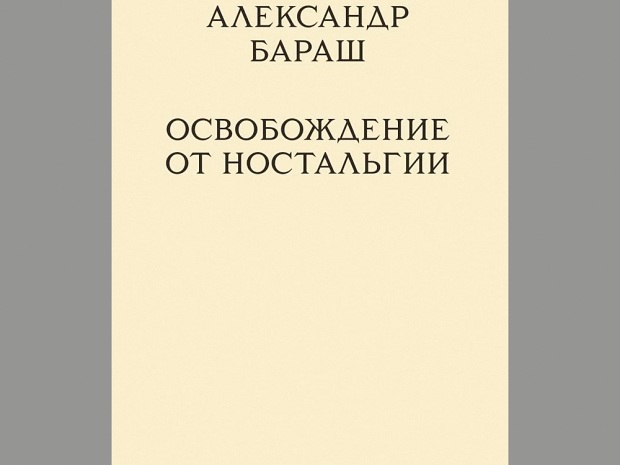Черная тарелка

Идиш стал его жизнью
Борис Сандлер родился в 1950 г. в молдавских Бельцах, где значительная часть населения, в том числе его семья, говорила на идише. И, делая первые шаги в литературном творчестве, он обратился к мамэ-лошн. Оставив профессию музыканта, Сандлер вошел в еврейскую группу молодых литераторов, учившихся в Литературном институте, стал постоянным автором, а затем и членом редколлегии журнала «Советише геймланд». Идишистская культура стала его жизнью. Он не только писал прозу на этом языке, но и преподавал его в Кишиневе, а затем в Израиле, куда репатриировался в 1990-е гг. и где занимался издательской деятельностью. В Нью-Йорке он долгие годы был редактором старейшей идишистской газеты «Форвертс». Писателем изданы 16 книг, некоторые из которых переведены с идиша на русский и английский языки. Мы предлагаем внимании. читателей «ЕП» рассказ «Черная тарелка».
Она висела на стене у нас на кухне, под самым потолком, похожая на пасхальный поднос, только поглубже, и целый день – с шести часов утра до полуночи – из нее что-то доносилось: то трескучая речь, то музыка, то песня. Черная тарелка стала как бы частью нашего семейства. В доме у каждого из нас было свое отношение к ней. Дед, старейшина в семье, благочестивый еврей, проживший все годы до войны в местечке, уверял, что эта черная штуковина ничего общего с истинным благочестием не имеет, ума не добавит, потому что все ее словеса – из казенного источника. Больше того, дед полагал, что тарелка висит не просто так, они ее специально внедрили, желая знать, что каждый говорит у себя дома. «Поэтому надо остерегаться с каждым словом, не болтать лишнего».
А бабушка, в отличие от деда, выросла в Бельцах, в городе, где семья поселилась после войны, вернувшись из эвакуации. Она закончила русскую женскую гимназию еще в царское время, читала книги графа Толстого, играла на мандолине и (трудно поверить!) танцевала полонез. Она была совсем юной, когда ее родители устроили сватовство с родителями дедушки, и жених увез ее в свое местечко.
Бабушка целыми днями хлопотала на кухне и как раз была довольна трещоткой, как она называла репродуктор. С ним хоть можно услышать слово, песню, иначе рискуешь совсем оскотиниться.
Родители мои целыми днями были на работе, так что к черной тарелке папа только вечером слегка прислушивался, после ужина, когда передавали последние известия. Сделав громче звук, слушал новости из Москвы, заглядывая в газету «Правда», словно сопоставляя в мыслях услышанное и прочитанное. Мой отец был школьным учителем математики. Наверно, потому привык все перепроверять, уточнять, в том числе и последние известия из Москвы. И порой в самом деле случалось так, что он находил у них расхождения, нестыковки, особенно когда дело касалось подсчетов.
– Забавно получается, – удивлялся папа, – здесь пишут одно число, а там называют совсем другое.
– Смех и грех, куда ни глянь, – раздавался в ответ голос деда, словно он только и ждал замечания папы, готовый тут же оседлать любимого коня.
– Сразу после их вступления в наше местечко, в 1940-м, все обитатели были на седьмом небе. Шутка сказать, сам усатый мессия пожаловал к нам собственной персоной! На другой же день прошли выборы за новую власть, и банщик Лэйбалэ сразу выбился в начальство, стал таким «я-тебе-дам!», председателем местечкового совета. На третий день спохватились, что во всех магазинах и лавочках исчезли товары. На четвертый день, нет, накануне ночью, арестовали и выслали всех состоятельных людей местечка, а с ними и главного раввина. На пятый день закрыли все синагоги, а в главной синагоге устроили клуб...
Может быть, дед стал бы рассказывать, что произошло в их местечке в шестой и седьмой день после прихода освободителей, но тут вдруг послышался зычный голос Мотла, племянника нашего деда.
– Что-то я не пойму, – каждым своим словом он будто забивал стальные гвозди в наш кухонный стол, – тебе, дядя, не нравится наша власть?
Недели две тому назад Мотл демобилизовался и стал, по определению моей мамы, достойно отслужившим «парнем на выданье». Она взялась пристроить его, найти ему достойную пару. А пока суд да дело, Мотл жил у нас, спал в одной комнате со мной на матрасе, лежавшем на полу.
Точно в шесть часов утра черная тарелка подавала голос. Тишину оглашал протяжный, словно с неба докатившийся аккорд, возвещавший мажорным тоном населению советской державы, что новый день, приближающий каждого ее гражданина к коммунизму, наступил. Этих нескольких мгновений, пока аккорд наполнял все уголки нашего дома, было достаточно, чтобы Мотл вскочил со своего ложа и, покачиваясь, словно он стоял на кораблике, подносил правую руку ко лбу, отдавая честь. Глаза он не спешил открывать, опасаясь, видимо, расплескать ночные сновидения. И как только небесный аккорд умолкал, Мотл тут же валился на жесткий матрас и как ни в чем не бывало продолжал дрыхнуть.
В тот вечер, когда Мотл вмешался в рассуждения дедушки о советских освободителях и резко оборвал его речь, голос его звучал так, будто весомые слова произносил не лишь бы кто, а собственной персоной Юрий Левитан.
– Не нравится тебе, дядя, наша власть?..
– Мотл, – отозвался мой отец, – думай, что ты мелешь!
– Не Мотл я, – прогремел его голос, – а Матвей!
Нависла тягостная тишина. Молчала и черная тарелка, будто прислушиваясь и пытаясь узнать, что в этом доме произойдет дальше. Заговорила моя мама:
– Ладно, пусть будет Матвей, – произнесла она и добавила в рифму: – Но все равно еврей.
Сразу после ее слов тарелка объявила: «Театр у микрофона. Передаем инсценировку романа Достоевского „Идиот“».
Мотл обитал у нас еще недели две, после чего перебрался в общежитие мехового комбината, где его приняли на работу. Он был первым из всех наших родственников, кто уехал в Израиль.
А в нашем доме, оглашенном последними известиями с полей, строек, фабрик и заводов, продолжалась будничная каждодневная жизнь. Дедушка после того, как закрыли в нашем городе единственную синагогу в ходе борьбы с религией, стал молиться дома. Бабушка хлопотала у плиты, продолжая нести свою вахту, каждое утро готовила маме и папе (каждому в отдельности) обеденные пакетики с едой, которые они брали с собой на работу. Меня же небесные аккорды не будили, под говор тарелки я научился спать, просто любопытно было смотреть, как Мотл отдавал честь. Оставшись один, я не спешил с подъемом, лежал на спине, подложив руки под голову, позволял себе понежиться, слушая черную тарелку.
Может, в такие минуты ребяческой задумчивости я ломал голову, никак не мог взять в толк, как это получается, что у стены, на которой висит черная тарелка, ничего нет, никакого аппарата, а из нее слышны живые голоса, песни и даже целые оркестры. Мотл, в армии служивший радистом, пробовал мне растолковать, что радиостанция посылает особые сигналы по проводам, ведущим к черной тарелке – к репродуктору. Вообще-то Мотл мне не соврал, я своими глазами видел провод, о котором он говорил. Но как по какой-то проволоке могут доноситься звуки и вылетать из тарелки, как птички из клетки? Что-то не то болтает этот Мотл, думал я тогда. Я же слышал, как дедушка однажды сказал ему: «За три года службы в армии тебе там хорошо вправили мозги».
Моей любимой радиопередачей тогда была «Пионерская зорька», которую слушал в ту пору почти каждое утро. Она обычно начиналась протяжным пением горна. И хотя до дня, когда стану пионером и начну носить красный галстук, было еще далеко, при звонком звучании горна мне хотелось вскочить с постели и петь вместе с теми мальчиками и девочками из черной тарелки:
Взвейтесь кострами, синие ночи,
Мы – пионеры, дети рабочих.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: «Всегда будь готов!»
Я мечтал стать летчиком и летать на реактивном истребителе. На таком, какие можно увидеть из нашего двора. Он проносится в небе с оглушительным шумом, как внезапный гром в солнечный день. А за ним тянется белая полоса, которая постепенно расплывается, и самолет тает в густой синеве. Никак не мог я тогда уразуметь одну вещь: как в такой маленький, как игрушечный, самолет может поместиться летчик? Выходит, все летчики должны быть лилипутами?
По воскресеньям, в девять пятнадцать утра, все наше семейство, кроме деда, слушало передачу «С добрым утром!». Усаживались за столом на кухне, как на праздничном обеде, и прислушивались к тому, что лилось из черной тарелки. Можно было сэкономить, не ходить на концерт, потому что концерт с участием лучших артистов сам приходил к тебе прямо в дом. Единственным местом, где в нашем небольшом городе можно было увидеть живого артиста, был Дом культуры в центре, на улице Ленина, старое двухэтажное здание с четырьмя обшарпанными колоннами вдоль фасада. Как я слышал однажды от моей бабушки, в этом доме до войны помещался кинотеатр Шапиро – синема «Иллюзион», а сама улица называлась именем румынского короля Карола.
Летними вечерами и по воскресеньям лучшим местом для прогулок был пятачок в центре, который почему-то называли «Плэцл». Там можно было встретить знакомых или родственников, живущих в разных местах, видеться с которыми посреди недели возможности не было. «Плэцл», называвшийся так еще до войны, головой касался Дома культуры, а ногами упирался в парк. Перед Домом культуры висели большие афиши, украшенные именами заезжих артистов, певцов, чьи голоса уже слышали по черной тарелке, особенно в передаче «С добрым утром!». Мне это казалось чудом. Вот в наш город по заржавленным проводам поступает сигнал с их голосом, мы не видим их лиц, не можем прикоснуться к этим людям. А вот к нам пожаловали и сами эти знаменитости собственной персоной, чтобы выступить перед публикой.
Моим родителям особенно пришлись по душе несколько артистов – Аркадий Райкин, а также веселая пара с забавными именами – Штепсель и Тарапунька. Райкин в своих выступлениях каждый раз менял свой голос: вот он только что гундосил, клянчил и жаловался, а вот он уже кричит на кого-то, как наш сосед орет на свою жену. Штепсель с Тарапунькой тоже очень смешные: Штепсель говорит по-русски ясно и понятно, а Тарапунька тараторит на такой смеси русского с украинским, что я с трудом понимаю его разговор. За столом у нас все очень смеялись, покатывались от хохота, так и мне пришлось смеяться вместе с ними.
О том, что Райкин еврей, на «Плэцл» знал каждый встречный-поперечный, хотя по радио об этом никогда не сообщалось. Поговаривали также, что один из двух потешных комиков, Штепсель, – еврей, а Тарапунька – украинец. Штепсель – мелковат и с хитрецой, а Тарапунька – долговязый простак. И эта информация тоже проистекала не из черной тарелки. Но были очевидцы, которым посчастливилось видеть этих артистов в натуре на сцене нашего Дома культуры. Кстати сказать, «Плэцл» сам по себе являлся чем-то вроде огромной черной тарелки, где можно было услышать и обсудить (причем без всяких проводов) то, о чем обычная черная тарелка умалчивала.
Среди других радиопрограмм, чьи звуки заполняли нашу кухню, выделялась передача, носившая название «Концерт по заявкам радиослушателей». Дедушка, конечно, очень даже сомневался, что люди из разных городов и сел, якобы присылавшие заявки в радиокомитет, – доподлинные. Он настаивал на своем: «Врут! Все у них вранье. Кто станет посылать им свое настоящее имя и адрес?» Так он утверждал, пока не случилось то, что случилось.
Мама, очень любившая петь и очень редко предававшаяся этому занятию, разве что во время вышивания своих картин разноцветными нитками мулине, получала огромное удовольствие от концертов по заявкам. Из них она узнавала о новых песнях, тут же сразу запоминала их – и мелодию, и слова. Много лет спустя я нашел среди старых вещей несколько тетрадей с пожелтевшими страницами и выцветшими чернильными записями – тексты десятков песен, впервые услышанных мамой в концертах по заявкам слушателей.
Одно обстоятельство всегда вызывало у нее недоумение и печаль: почему никогда в этих концертах не передают ни одной еврейской песни? И вот бабушка однажды сказала ей то ли всерьез, то ли шутя: «Почему ты им никогда не напишешь?» Похоже, мама приняла всерьез бабушкину подсказку и написала письмо по московскому адресу, который диктор постоянно озвучивал в конце передачи. Каково же было наше удивление и восторг, когда как-то вечером во время передачи концерта по заявкам вдруг услышали, как из черной тарелки назвали имя мамы и город, откуда они получили письмо. Сразу после этого зазвучала песня «Ицик уже поженился».
Тот вечер я помню поныне. Мамы как раз в кухне не оказалось, хотя ее любимая передача уже началась. Раздался бабушкин крик, она звала маму. На ее зов в кухню уже поспешили зайти папа и дедушка. (Дедушка ей, между прочим, сказал: «От такого крика могло показаться, что у тебя начинаются роды».) Ни слова в ответ не сорвалось с бабушкиных губ, она как бы оцепенела, замерла с таким непроницаемым выражением лица, на котором блуждала то ли еле заметная улыбка, то ли гримаса боли. Молча подняв руку, она пальцем указала на черную тарелку.
Песню эту исполнил знаменитый московский кантор и певец Миша Александрович. Я не уверен, что кто-то из моей родни до этого случая слышал когда-то это имя. Оно однако запечатлелось в моей памяти вместе со звуками веселой и незамысловатой народной песни о горемыке Ицике. Песню эту можно было бы обратить и к нашему родственнику Мотлу-Матвею. Тогда я впервые ощутил, глядя на маму, что слезы из глаз могут течь по щекам и от радости.
В ближайшее воскресенье после этого концерта по заявкам «Плэцл» бурлил. Нечего сказать, событие! Кто мог представить себе такое: из черной тарелки песня звучит на идише, на еврейском языке. Разумеется, у нас знали, что в нашей стране случайно ничего не происходит, особенно когда дело касается евреев. Новый хозяин Кремля, известный у нас на «Плэцл» как Плешивый, вероятно, передает через Ицика сигнал, что надо ждать перемен. К добру ли, к недобру – это уже покажет жизнь. Некоторые умники пошучивали, что добром мы уже сыты по горло, как бы не стало еще лучше. Дедушку моего эти разговорчики не задевали; он, наученный советским опытом в своем сгоревшем местечке, твердо придерживался мнения: «Этим бандитам верить нельзя!» А бабушка обычно обрывала его: «Верь, не верь, кутерьма все равно останется».
Другое дело – моя мама. К ней стали подходить, расспрашивать, как ей это удалось. И, может быть, раз ее уже знают в Москве, стоит попробовать заказать другие еврейские песни. Ей даже подсказывали, какие именно. Например, «Бельцы, мой городок», или «Варнички», или «Мама не виновата». Один человек даже передал через нашу соседку записку с просьбой заказать по радио библейское песнопение «Овину-Малкейну». Устно его посредница добавила, что, если понадобится, он готов внести плату наличными.
Я никогда не спрашивал маму, обращалась ли она когда-нибудь еще в радиопрограмму по заявкам, но с того вечера по черной тарелке я больше не слышал еврейских песен. Уже в Израиле, прожив там пятнадцать лет, мама как-то позвала меня на кухню, прикрыла дверь и рассказала, что через недели две после того памятного концерта ее вызвали в отдел кадров предприятия, где она работала бухгалтером, и оставили ее наедине с человеком в штатском. Он обратился к ней вежливо, представился, кто он есть и откуда пришел. Долгой беседы с ней не завел, но посоветовал больше таких заявок в Москву не посылать. Есть люди, способные использовать ее искренние национальные чувства в неприглядных целях...
– Об этом я никогда никому не говорила, даже твоему папе, светлая ему память... Не хотела, чтобы он переживал...
Страх тех далеких, минувших лет еще трепетал в ее зрачках. И мне кажется, после той встречи в отделе кадров мама тоже начала думать, как дедушка, что черная тарелка неспроста висела на стене в каждом доме и что сигналы по проводам работали в двух направлениях.
В те 1950-е годы, о которых я здесь вспоминаю, случилось еще одно происшествие, потрясшее мир и, как много других новшеств, не просто удивило и вызвало восторг, но также нагнало страху, даже ужаса. В обычный осенний день 1957 года черная тарелка вдруг резко оборвала свою передачу. Стало слышно, как на сковородке шипят котлеты, которые бабушка жарила. Внезапная тишина обострила чуткий бабушкин слух. Она вытерла руки передником и подошла поближе к стене, где висела «трещотка».
– Что-то не нравится мне ее молчание, – произнесла бабушка, поглядывая вверх, точно ожидая оттуда ответ. Ответ быстро поступил. Он прозвучал голосом Юрия Левитана. Торжественно и протяжно, как он умел, несколько раз подряд он повторил те же два слова: «Говорит Москва!»
Бабушка вздрогнула и тоже неторопливо, четкими шагами подошла ко мне, обняла мою голову и прижала к себе. Я почуял запах ее фартука, вобравший в себя запахи всех приготовленных ею лакомств. Одним ухом упирался я в ее живот, другое ухо она мне прикрыла своей ладонью, как нарочно, чтобы я не мог услышать, что говорит Левитан. Я еле вырвался из ее рук и услышал незнакомое слово «спутник».
В эту минуту в кухню вбежала соседка. Глаза ее были полны слез. Она хлопала себя ладонями по бокам и наперебой повторяла: «Скажите мне, пожалуйста, что это такое – спутник, космос?..» Бабушка, о которой вся наша улица знала, что она окончила русскую гимназию, читала графа Толстого, играла на мандолине и танцевала полонез, под градом вопросов перевела дух, поправила платок на голове и уверенным голосом стала проявлять свои глубокие познания в русском языке:
– Спутник – это кто идет рядом, попутчик. А космос...
Она, видимо, спохватилась, что в русской гимназии царских времен про космос не проходили. На помощь ей подоспел дедушка, которого голос Левитана тоже заставил прислушаться к черной тарелке.
– Космос, шмосмос, – сказал он, – хорошее дело они не придумают!
– Только бы войны не было, – вздохнула соседка. – А то я сразу пугаюсь, когда слышу голос этого диктора. С тех страшных лет он меня преследует.
Еще не один год черная тарелка доставляла сигналы из Москвы в наш дом, вовлекая наше семейство в сеть общественной жизни, которой тогда жили все. Другой голос, даже голоса послышались в нашем доме, когда папа купил радиоприемник «Беларусь-57» – дорогую, красивую вещь, ставшую частью скромного мебельного гарнитура в спальне родителей. Для радиоприемника прикупили низкий столик, и оба эти предмета задвинули в угол между шкафом и широким диваном, который бабушка с гордостью называла тахтой...
На стеклянной шкале приемника, который иносказательно стали именовать ящиком, были обозначены все крупные города мира, как на карте. Но папа искал одну-единственную полоску, тонкую, как волос, где никакой город не был обозначен и в помине, но сквозь гул и треск помех можно было расслышать: «Кол Израэл, Голос Израиля».
Уже поздно. Из черной тарелки льется тихая классическая музыка, словно провожая в вечность еще один завершившийся день. Дедушка после вечерней молитвы все еще сидит за кухонным столом, заглядывая в свой молитвенник-сидур. Почти все дни своей жизни довелось ему провести в двух разных мирах: в трудном и суетном мире, окружавшем его, и в мире его святынь, где он стремился найти правду. Нашел ли он ее?
Бабушка сидит напротив него на узком диванчике, натруженные руки уронив на колени и прикрыв их фартуком. Ее короткие ноги не достают до пола. Они медленно покачиваются на весу, как бы соскучившись по фигурам полонеза. Перед тем как отойти ко сну, она ставит на плиту чайник, полный свежей воды, чтобы закипел. Она заботится обо всем. На ночь должна быть припасена кипяченая вода – мало ли для чего понадобится?
Папа уже заканчивает проверку школьных тетрадей своих учеников. Уверен, он не пропустил ни одной ошибки. Он всегда был начеку, когда речь шла о чужих ошибках. В начале семидесятых, когда появилась возможность выезда в Израиль, Мотл предложил осуществить это вместе с ним. Что же ответил ему мой папа? «Матвей, ты делаешь крупную ошибку».
Мама откладывает вышивку двух красивых роз на канве, натянутой на пяльцы – два тонких деревянных кружочка. Еще пара вечеров – и на тахте появится новая вышитая подушечка.
А я в тот час уже лежал в своей постели, едва прислушиваясь к тихим звукам музыки, убаюкивавшим меня и постепенно сливавшимся с моими первыми сновидениями.
Перевод с идиша Михаила Хазина
Уважаемые читатели!
Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:
старый сайт газеты.
А здесь Вы можете:
подписаться на газету,
приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,
а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство