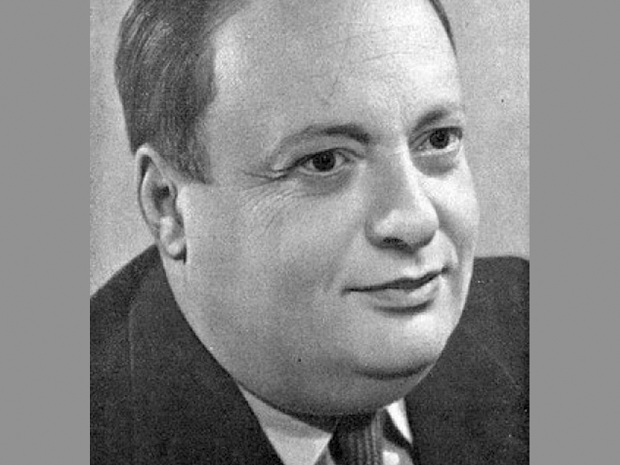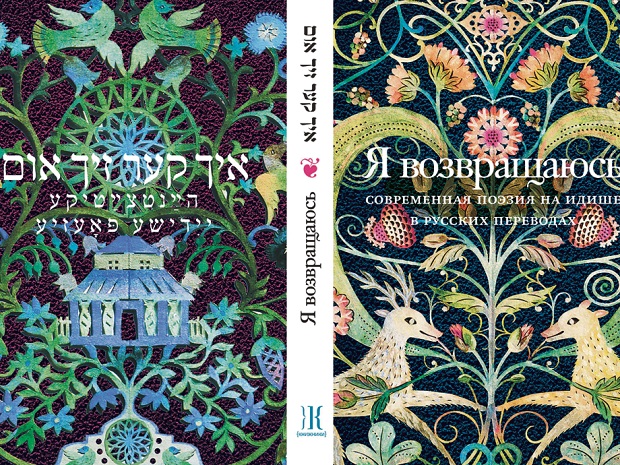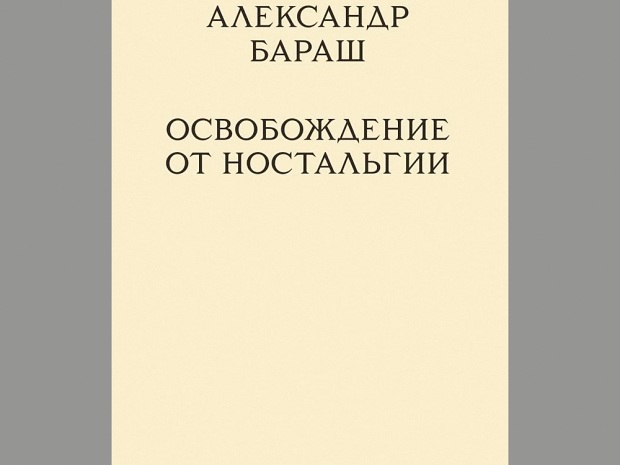«Судил меня Бог, и щадил меня Бог…»
Десять лет назад умерла Инна Лиснянская

Инна Лиснянская с мужем Семеном Липкиным в Переделкино ©
В середине 1960-х она написала:
Судил меня Бог, и щадил меня Бог,
Берег, и стерег, и наказывал,
Но ни на одну из возможных дорог
Перстом никогда не указывал.
Сама по нутру своему выбирай
Свой путь, свой удел, свой уклад,
Не то преисподней покажется рай,
И раем покажется ад,
А выбрала, так никогда не жалей
Ни песен, ни башмаков!..
И выбрала я печальных друзей
И беспечальных врагов.
И дочь бакинского военврача 2-го ранга Льва Лиснянского и инженера Раисы Адамовой выбрала – по своему мироустройству, по своему мироощущению.
Получая паспорт, записалась еврейкой, что в те годы было поступком. В постсоветские годы поступок объяснила: «Мама у меня была армянка. Во мне есть кровь и русская. И французская, есть и еврейская, которая главенствовала у отца, военврача. Получая паспорт, я попросила записать меня еврейкой, потому что знала о жертвах Катастрофы…»
Совместная жизнь у родителей не сложилась, после развода мать переехала в Москву. Инна осталась с отцом, как и все советские дети пошла в школу, где ее приняли, как и всех одноклассников, в пионеры. Но когда пришло время вступать в комсомол, куда тоже записывали всех до единого, поступила не как советский ребенок: сожгла комсомольский билет, а тем, кто принимал, сказала, что потеряла. Ее опять приняли – она опять «потеряла». И тогда ее из комсомольцев исключили. Чего, собственно, она и добивалась.
А когда началась война, пошла санитаркой в госпиталь. Ее никто не звал, не просил, пошла сама, потому что считала – так нужно. А после войны, семнадцатилетнюю, ее забрали в местный бакинский НКВД по делу близкой подруги Рафы Копейкис и ее жениха. Следователь, вспоминала через всю жизнь Лиснянская, орал: «Tвоя Копейкис… рассказала всё… Призналась, что жених ее, Гена Альтшуллер, жидовский изобретенец, порошок изобрел: в любую лужу брось во время парада – растворится, и вонь пойдет, и завоняет на площади Ленина правительственную трибуну и колонны трудящихся. Подтверди формулу – отпустим. Кончай врать и прощения проси!..»
Не попросила. А допрашивали ее с пристрастием: и били, и, как это было принято у доблестных чекистов, пускали свет в глаза, и окунали в цинковую ванну с ледяной водой, но сломать не сумели. Отпустили только тогда, когда она «сознательно или подсознательно… в один из допросов брякнулась на пол и начала биться, как эпилептик…». Осталась с одним глазом, другой выбили.
Начало пути
Писать стихи она начала в юности, первые публикации пошли после войны, первая книга вышла в Баку в 1957 г., здесь же родилась Лена (ныне израильский прозаик Елена Макарова), дочь от первого брака с поэтом Григорием Кориным, как говорила Лиснянская, лучшее ее произведение. После развода она переехала в Москву, где и началась настоящая литературная жизнь. Она переводила, в издательстве «Советский писатель» без каких-либо помех выходили сборники стихов «Верность» (1958), «Не просто – любовь» (1963), а на пути сборника «Из первых уст» (1966) встал тогдашний заместитель главного редактора главного писательского издательства в стране Борис Соловьёв, в свое время писавший стихи и даже романы, но снискавший печальную известность на критической ниве. Уже из верстки он потребовал изъять некоторые стихотворения и внести существенную правку во многие другие.
Так произошло первое столкновение с цензурой, после чего начали возникать трудности с другими рукописями. Следующая книга в «Совписе» (как называли в те времена в литературных кругах это издательство) «Виноградный свет» увидела свет только через 12 лет – в 1978 г.
Грани таланта
В круг тогдашних известных женщин-поэтов – Белла Ахмадулина, Юлия Друнина, Инна Кашежева – она не вписалась; была не на обочине, а где-то рядом. И критика ее не особо жаловала. Такие стихи, как «Над черной пропастью воды…» (да и другие тоже), критикам были не по душе:
Над черной пропастью воды
Вдруг показалось мне,
Как две летящие звезды
Столкнулись в тишине.
И разминуться не могли,
Сожгли себя дотла, –
И долетела до земли
Лишь звездная зола.
И это видел старый мост
И месяц молодой.
Ты был одной из этих звезд,
А я была другой.
И поэтому ее старались не замечать. Внимание обратили после скандала с «Метрополем». А у нее был свой – особый – голос, резко очерченный почерк и свои темы. Прозаик Михаил Рощин уже в постсоветские времена говорил о ней: не прославлена, не канонизирована, не растиражирована, не прочитана по-настоящему, недоиздана, не расхватана. Не-не-не-не – сколько угодно подобных «не». В эти же времена критик Андрей Немзер писал: «Поэзия Инны Лиснянской упорно противится жестким определениям и строгим интерпретациям. С одной стороны, вроде бы совсем не трудно исчислить „ключевые темы“ и выявить смысловые связи, организующие четыре цикла, что составили ее новый сборник „В пригороде Содома“… Ну да, „Гимн“ – это о счастливой любви в старости, соименный книге раздел – о безумии времени, сострадании и боли, „Тихие дни и тихие вечера“ – об одиночестве, а „Старое зеркало“ – обо всём, что отражается на стеклянной глади. Но любовь сцеплена с болью и одиночеством, приют „старосветских помещиков“ соседствует с обреченным мегаполисом, история кончающейся в муках империи имеет прямое касательство к судьбе поэта, а старое зеркало не только отражает дом, сад, лес, дорогу, мирозданье, прошедшее и грядущее, но и чудесным образом остается собой – обычным и волшебным старым зеркалом. Тут-то и начинается „с другой стороны“, и, по-моему, это самое главное. Лиснянская делает ощутимым самодостаточность всего, к чему прикасается еe слово. Грань между „называнием“ и „метафоризацией“ исчезает… Лиснянская не хочет застить кому-либо белый свет – потому и в самых горьких ее стихах свет остается светом, цвет… – цветом, а звук (будь то птичий щебет или гул самолета) – звуком. Всё сущее живо, может одарить радостью и взывает к состраданию».
Ее поэзию ценили самые разные люди: от Иосифа Бродского («Из того, что я читал в последние годы (из интервью 1983 г. – Г. Е.), стихи Лиснянской произвели на меня особое впечатление… Она совершенно замечательный лирик, особенно в коротких стихах, – это стихи чрезвычайной интенсивности…») до Семена Липкина («…чувство гармонии, то, что Заболоцкий обозначил когда-то аббревиатурой МОМ (мысль, образ, музыка), развито у Лиснянской так, как оно должно быть развито у истинного художника. Только художник, черпающий мужество в смирении и вере, может определить безумие наших дней, ничуть его не страшась, как порядок, пусть и жесточайший…»). Поэтесса Татьяна Бек назвала Лиснянскую «трагическим лириком эпохи», а критик Станислав Рассадин – «одним из самых значительных поэтов нашего… снова спрошу: безвременья? времени?». Черту подвел литературовед Александр Архангельский: «Начав печататься еще в 1949 г., Инна Лиснянская медленно, но неуклонно восходила к вершинам поэтического мастерства; без венка сонетов „В госпитале лицевого ранения“, написанного в 1984-м (а напечатанного в России значительно позже), не обойдется ни одна хрестоматия русской лирики ХХ в. Всем жертвуя ради поэзии и ничем не поступаясь ради житейского блага, Лиснянская приобрела незыблемый литературный авторитет…»
«Здесь делают фальшивые деньги?»
В конце 1960-х – начале 1970-х в общественно-политической жизни страны стало оформляться явление, которое позже получило наименование «брежневский застой». Дышать было трудно, особенно творческой интеллигенции – после осуждения Синявского и Даниэля, высылки Солженицына, после разгона «бульдозерной выставки» (см. «ЕП», 2019, № 9) в театрах запрещались спектакли (Эфрос, Любимов), отснятые фильмы ложились на полку (Аскольдов, Герман), задерживались, а то и вообще не принимали к печати романы, повести и даже стихи (В. Гроссман, Бродский).
Вот тогда молодым писателям Виктору Ерофееву и Евгению Попову и пришла идея издать бесцензурный альманах и собрать в него произведения, отвергнутые официальными издательствами чисто по идейным соображениям.
Ерофеев в новые российские времена вспоминал: «В декабре 1977 г., когда я снимал квартиру напротив Ваганьковского кладбища и каждый день в мои окна нестройно текла похоронная музыка, мне пришла в голову веселая мысль устроить, по примеру московских художников, отвоевавших себе к тому времени хотя бы тень независимости, „бульдозерную“ выставку литературы, объединив вокруг самодельного альманаха и признанных и молодых порядочных литераторов. Бомба заключалась именно в смеси диссидентов и недиссидентов, Высоцкого и Вознесенского. Я без труда заразил идеей своего старшего прославленного друга Василия Аксенова (без которого ничего бы не вышло), к делу были привлечены Андрей Битов и мой сверстник Евгений Попов (Фазиль Искандер подключился значительно позже), и оно закрутилось».
В квартире матери Аксенова Евгении Гинзбург составили сборник. Кто-то из легально печатавшихся писателей отказался в нем участвовать, кто-то, как не печатавшийся Высоцкий, согласился не раздумывая, как и Горенштейн с Карабчиевским, которые печатались за границей, как Липкин и Лиснянская, которых не печатали и которым надоело писать в стол.
Тексты печатали на машинке (помните у Галича: «„Эрика“ берет четыре копии»?), листы сшивали. К делу привлекли замечательных театральных художников – Давида Боровского, который предложил оригинальный макет, Бориса Мессерера, нарисовавшего эмблему будущего свободного бесцензурного альманаха, и Анатолия Брусиловского, его проиллюстрировавшего. Виктор Ерофеев вспоминал: «Ядовито спорили между собой поэтессы: кумир молодежи, покоритель стадионов Белла Ахмадулина и очень камерная Инна Лиснянская. Некоторых мы с собой не взяли, вроде к тому времени заигравшегося с властями Евтушенко. Кое-кто забрал рукопись назад. Романист Юрий Трифонов объяснил это тем, что ему лучше бороться с цензурой своими книгами, поэт Булат Окуджава – что он единственный среди нас член партии… Звонил в дверь (первый этаж, налево от лифта, квартира покойной Евгении Семеновны Гинзбург – штаб конспирации) самый популярный в стране автор «Метрополя» Владимир Высоцкий… Hа вопрос „Кто там?“ отзывался: „Здесь делают фальшивые деньги?“».
Скандал в «благородном семействе»
И когда в 1979 г. альманах ушел в самиздат, а затем, преодолев тщательно охраняемые границы родины, добрался до Соединенных Штатов Америки, где в том же 1979-м был опубликован в городе Анн Арбор (штат Мичиган) в издательстве Ardis Publishing, которое создали американские слависты Карл Проффер и его жена Элендея и которое публиковало запрещенных в СССР Набокова, Мандельштама и других, включая современных авторов Копелева, Войновича, Битова, разразился скандал. Я не буду перечислять имена тех, кто обрушился с яростными нападками на авторов этого издания (особенно усердствовал бывший либеральный критик Феликс Кузнецов, к этому времени ставший писательским чиновником), не прошедшего сквозь сито цензуры и не получившего штамп Главлита «К печати»; замечу только, что среди ретроградов и откровенных подлецов было и несколько приличных людей.
Альманах осудили словесно, никого не арестовали, никого не посадили, всё-таки на дворе стояли не сталинские расстрельные годы, хотя Николай Грибачев (тот самый, что в хрущевские времена называл себя «автоматчиком партии»), вспоминал Виктор Ерофеев, встретившись с ним в коридоре сказал «с блатной доверительностью: „Что бы вы там ни говорили, всё равно вам, ребята, хана“».
Очевидно, под «ханой» этот с позволения сказать «писатель» понимал исключение из Союза писателей, что и случилось: Ерофеева и Попова из Союза исключили. На печатание других авторов был наложен негласный запрет. Против действий писательского начальства возвысили свой голос Белла Ахмадулина, Андрей Битов, Фазиль Искандер и Василий Аксенов. Но всё было безрезультатно. И тогда Липкин, Лиснянская и Аксенов в знак протеста против исключения своих товарищей вышли из Союза – решили, что с такой «творческой» организацией им не по пути.
Но всё это проходило в писательских кулуарах, общественность, как всегда, всё узнавала из «голосов» (недаром по Москве ходила частушка, очень точно отражавшая тогдашнюю ситуацию с советской гласностью: «Есть обычай на Руси – ночью слушать Би-би-си»), по которым подробно комментировали очередной литературный скандал. А затем New-York Times в поддержку поднявших на «советском корабле» бунт опубликовала письмо, под которым поставили свои подписи Артур Миллер, Эдвард Олби, Джон Апдайк, Курт Воннегут и Уильям Стайрон.
В это же время Инна Лиснянская написала приведенное ниже открытое письмо в секретариат правления всех трех писательских союзов – СССР, РСФСР и Московского отделения – и в «Литературную газету», в которой, естественно, оно опубликовано не было.
Почему я оказалась одним из авторов литературного альманаха «Метрополь»
Я до последнего стука сердца предана своей родине. Для одних родина – географическое понятие, для других – понятие крови, для третьих – блага закрытого распределителя. Для меня родина – это, прежде всего, русская речь, вне которой я не мыслю своего существования.
Именно эта приверженность к русской речи и привела мои семь стихотворений в «Метрополь». Альманах я рассматривала как попытку избавить речь писателя от многоступенчатой, бесстыдно-назойливой редактуры.
Я никогда не видела живого цензора. Роль цензуры в наших издательствах давным-давно исполняет редактура... Моя последняя книга стихотворений ополовинена… редактурой издательства «Советский писатель». Никто из редакторов не обвинял мою рукопись в нехудожественности или в политических огрехах.
Но, роняя слова невнятно, редакторы действовали решительно. Одни – в меру своего страха перед возможными упреками в упадочничестве и тому подобное, другие – в меру своего незамутненного пещерного невежества. Так, стихотворение «Руфь» было изъято из моей рукописи только потому, что ни одному из редакторов не был известен этот персонаж, вдохновивший, задолго до меня, стольких поэтов и живописцев…
Мои переводческие работы… выброшены в корзины пяти столичных издательств. Отвечая американским писателям, Феликс Кузнецов (в 1977–1987 гг. был первым секретарем правления Московской писательской организации СП СССР. – Г. Е). лживо умолчал о тех литераторах, которые подверглись за участие в альманахе «Метрополь» самым безжалостным экономическим санкциям, о тех литераторах, чьи имена и даже ссылки на имена изымаются из печати.
Три составителя альманаха, а также С. Липкин и я (Ахмадулина вам написала отдельно) в своем письме 31 июля 1979 г. по поводу исключения из Союза двух молодых прозаиков, предупреждали: «Ни у кого не должно быть сомнения, что отсутствие реакции на это письмо ставит нас в положение, в котором находятся наши товарищи Попов и Ерофеев, так как дифференцированный подход к участникам альманаха противоречит чувству достоинства и чести каждого из нас. Мы будем вынуждены выйти из Союза писателей».
И вот сейчас передо мной, не склонной ни к литературным, ни к иным баталиям, вы поставили дилемму: остаться членом Союза писателей или остаться человеком. Я выбираю второе, ибо, перестав быть человеком, нет никакой возможности остаться писателем. Я выхожу из Союза писателей, в котором состою 23 года.
«Прекратите запись»
После истории с «Метрополем» Лиснянскyю (как и Липкина) лишили права на профессию, преследовали, как умела преследовать власть: вызывали куда надо, грозили чем надо…
Но ей запомнилось смешное. Однажды раздался телефонный звонок из парткома СП. Звонила более функционер, нежели поэтесса. И состоялся разговор, о котором Лиснянская рассказала в 2000 г.: «„Инна, вспомни, как чудесно мы проводили время в солнечной Кабардино-Балкарии, где ты переводила Кайсына Кулиева. Неужели ты хочешь отказаться от нормальной жизни? Да и как ты, рядовой член секции поэзии, угодила в компанию таких известных членов Союза? Ты не им чета, порви с ними, напиши извинительное письмо нам, в Союз, объясни, что ты по наивности подписала письмо о выходе“. – „Что значит – извинительное письмо? Это я каждый день бегаю в почтовый ящик и жду извинительного письма от вас“. – „Выходит, ты твердо стала на антисоветскую платформу?“ – „Я никуда не вставала, а стою на той платформе, на какую меня поставил Союз писателей, и не знаю, куда она двинется“. – „Ну пойми, должен же Союз с вами бороться! Вспомни, как Гитлер боролся с коммунистами“. – „Но то – Гитлер, а это наша прекрасная советская власть…“
И тут я услышала мужской окрик: „Прекратите запись“. Что-то зашуршало, затрещало и – отбой».
Но всё проходит в этом мире. Кончилась советская власть, с нею закончился советский литературный морок (наступил другой), и впервые в России альманах «Метрополь» вышел в издательстве «Текст» (которое в основном выпускает книги еврейских авторов) в 1991 г.
Жизнь после смерти
Муж поэтессы Семен Израилевич Липкин умер 31 марта 2003 г.: сошел с крыльца дачи в Переделкино... и упал лицом в снег (см. «ЕП», 2018, № 3).
Жизнь разделилась на до и после. 3 января 2007 г. она записала в дневник: «…жизнь у меня после ухода Сёмы странная, поделилась на два пространства – на Подмосковье и Иерусалим. Но во снах, которые мне снятся третьи сутки, я уже во второй половине бытия, т. е. – в смерти. И так странно: мне снятся всякие письменные вести из жизни, как будто она и есть инобытие. Словно бы всё мое существование поменяло место, зеркально отражающее жизнь. Но это уже не жизнь, а смерть. Это я понимаю не только после сна, но и во время него. Вторая реальность поменялась местами с первой, и мне до слез жаль тех несчастных жителей гетто, которые мне посылают письма из жизни. Просыпаюсь – подушка влажная. И впрямь плакала во сне... То ли пора мне на тот свет, то ли в конце прошлого года начиталась Борхеса. Особенно меня поразили его рассуждения о вечности, рассуждения со многими ссылками на философов, начиная с Платона. А по мне сейчас каждая минута – вечность. Видимо, я слишком стара, чтобы жить на два дома или вообще жить. А на улице солнце и довольно тепло. Понимаю, что надо выйти на прогулку, но как вспомню, что буду двигаться с безумной одышкой, открыв рот и тараща глаза, не хочется собираться на улицу. Но Лена меня всё равно погонит. Но вот когда подъем я одолею и выйду на… аллею, то буду радоваться… солнцу над собой… и всей зимней зелени. За несколько дней до Нового года однажды выпал кратковременный снег. День – и от него не осталось и следа. Но нет, следы еще день продержались, мы выходили с Леночкой погулять, и было странно видеть на зеленых кустах лаванды и розмарина белые пятна снега».
Очевидец
В начале 2000-х я как редактор сотрудничал с издательством «Время», которое с 1993 г. издавало серию «Поэтическая библиотека». В 2007 г. мне предложили подготовить вместе с Инной Лиснянской избранное Семена Липкина. На составление сборника ушло несколько месяцев. Книга, которой мы дали название «Очевидец», увидела свет в 2008 г.
Когда здоровье Инны Лиснянской пошло на спад, дочь забрала ее к себе в Хайфу. 12 марта 2014 г. ее не стало. Тело перевезли в Москву, она хотела быть похороненной на кладбище в Переделкино рядом с могилой мужа, с которым прожила четверть века счастливой жизни.
Уважаемые читатели!
Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:
старый сайт газеты.
А здесь Вы можете:
подписаться на газету,
приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,
а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство