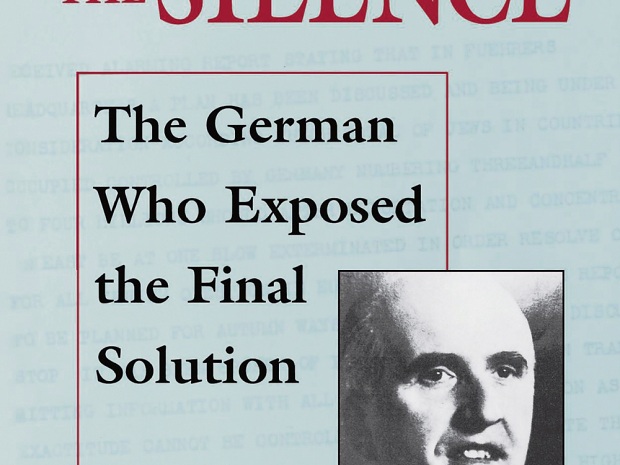«В профессии режиссера есть что-то общее с Создателем»
Интервью с Марком Розовским

Марк Розовский: «У меня есть еще одно событие, которым я похвастаюсь. Вышел второй том – „Мюзиклы“ – из цикла „Драматургия в трех томах“. Первый том – „Драмы“. А скоро должен выйти третий том – „Комедии“. „Литературная газета“ дала этому изданию премию „Лучшая книга года“… Вот такой трехтомник выходит. Это я памятник себе воздвиг (улыбается)». © Владимир Калинин
Накануне отмечаемого в марте Международного дня театра корреспондент «ЕП» беседует с театральным режиссером, драматургом и сценаристом Марком Григорьевичем Розовским. Отмечающий 3 апреля свое 85-летие народный артист РФ является художественным руководителем театра «У Никитских ворот», академиком американской Пушкинской академии, Академии искусств и Академии эстетики и свободных искусств, а также дважды (2006, 2012) получал титул «Россиянин года».
– Марк Григорьевич, в августе 2021 г. вы открыли свой 39-й театральный сезон. Предыдущий был очень непростым. Что такое театр в условиях пандемии? Театр может принять другие формы, например перейти в онлайн?
– Нет, театр – это живое искусство, никакой онлайн его не спасет. Это имитация театра. Возможен только живой театр, и в этом смысле пандемия именно для театра весьма губительнa. Да, конечно, жизнь человека на первом месте, а вот сразу вслед за этим – театр. Сила театра в живой игре. Нет живого контакта с залом – нет театра.
– А может человек прожить без театра?
– Да, конечно, может, и миллионы людей живут без театра. Другое дело, что они лишены того счастья, которое театр может дать человеку, но это их выбор. Эти люди сами себя обокрали, их жизнь довольно часто оказывается пустой.
– Сейчас все страны прилагают усилия к борьбе с коронавирусом. А есть сегодня что-то страшнее него?
– Мы живем в мире постоянных угроз, кровопролитий, войны. Человек сегодня под угрозой самоуничтожения. Есть ядерное оружие, и чем дальше, тем больше опасность, ибо оно может оказаться в руках радикальных сил. Прежде всего это радикальный ислам. Оно уже есть у Пакистана, так что мы накануне возможного трагического развития событий. И ужас в том, что договариваться с этими людьми невозможно. У них пещерное средневековое мышление, и это будет не война государств, а война цивилизаций. Собственно, она уже давно идет, но это не война в привычном смысле слова, хотя и в ней гибнут люди. Сегодня мы имеем разновидности всякого рода новых войн типа гибридной, компьютерной… Поэтому я, к сожалению, не очень большой оптимист. Говорю об этом не то чтобы со страхом, но с болью и горечью, ибо есть мои дети и дети миллионов людей, которые будут жить на том отрезке истории, когда человек оказывается беззащитен и когда то равновесие, которое после Второй мировой войны возникло в ядерном сообществе и которое сохраняло мир или, скорее, его подобие с помощью холодной войны, разрядки и пр., сейчас превращается в пустой звук, потому что сегодня мы в зависимости от какого-то аятоллы, способного отдать безумный приказ, и всё может закончиться в несколько мгновений…
– Марк Григорьевич, в марте 2020 г. состоялась премьера «Амадея». В театральной программке во вступительном слове вы используете термины «моцартианство» и «сальеризм». Моцарт – он настоящий, проводник божественного на земле. А почему же именно сальери правят бал?
– Я не согласен. Никаким балом Сальери не правит, правит как раз Моцарт, потому что искусство непобедимо, и у Сальери хотя и могут быть временные победы, но вечность слышит музыку Моцарта. И от нас зависит, хотим мы общаться с этой музыкой или она окажется вне нас. Да, многие люди живут – иногда даже неплохо – вне искусства. Сегодня публика изменилась, причем прежде всего элитарная публика, поскольку театр всe-таки элитарное искусство. А в российском обществе элита (я имею в виду настоящую культурную элиту) последние десятилетия мимикрировала. Она была разрушена во времена СССР, но и до этого подвергалась историческим остракизмам и катаклизмам и со стороны гитлеризма, и со стороны сталинщины. Но, слава Богу, дух жив, дух в этом смысле непобедим, как и искусство. И оно не зависит от числа поклонников: оно есть, а всё остальное – это уже наша зона ответственности за то, контактируем мы с искусством или нет.
Искусство выживет при всех режимах. Можно убить отдельного художника и даже в этом преуспеть, как в СССР. Но сегодня мы имеем дело с другой бедой: произошла культурная деградация. Поколения людей ничего не знают о прошлом, не умеют различать зло и добро. Сегодня мы имеем дело с пустотой, заполняющей все жизненное пространство. Культура в этом пространстве выживает, а вот человечество уже начинает задыхаться, ибо потеряна связь высокой культуры, высокого духа с конкретной человеческой особью. Толпа не может быть носителем культуры, и театр – это искусство для избранных. Но, как я люблю повторять, вся прелесть в том, что этими избранными могут быть все. Могут, но это не значит, что так оно и есть.
– А что было бы с Моцартом, если бы его жизнь повернулась по-другому: если бы ему покровительствовали и он не нуждался бы ни в чем? Продолжил бы он творить?
– Я не специалист по творчеству Моцарта, да и в «Амадее» я пытался рассказывать не историю Моцарта и Сальери. Проблема сальеризма и моцартианства связана с этими именами, но не более того. Есть доказательства того, что лично Сальери Моцарта не травил, но это не значит, что нет проблемы сальеризма и моцартианства. Если понимать под моцартианством прежде всего свободу художественного и человеческого изъявления, совместимого с гением, с талантом, – тогда мы начинаем понимать, каким бы он был. Да, он уже состоялся. Неважно, каким он бы был, но его произведения живут собственной жизнью. Да, его тело было физически похоронено в выгребной яме, но музыка-то есть и будет (улыбается).
А то, что мы называем завистью, холуйством, интриганством, рабством – то есть несвободой – вот это характерно для понимания противостоящего моцартианству сальеризма. Подчеркиваю: исторически сам Сальери к этому отношения не имел. Но и Пушкин ставил этот вопрос: совместимы ли гений и злодейство? Жизнь показала, что часто совместны. Но при этом жизнь также показала и чистоту моцартианского изъявления. Мы имеем множество примеров выдающегося служения высшему, и эти примеры есть у каждого народа.
– А может ли человек быть счастлив, если он остается равнодушным к происходящему вокруг?
– Он может думать, что счастлив, но это лишь видимость счастья. Есть разные понимания счастья: есть счастье быта, а есть счастье бытия. Человек может быть одиноким и голодным, но при этом счастливым. Но он также может быть не одиноким и сытым, но при этом несчастным. Каждый человек имеет свое представление о счастье. Для меня счастье – это мой театр. Если бы у меня не было театра, я бы давно покинул эту страну. Я бы, может, жил более свободно, мне не приходилось бы многое терпеть, сознательно идти на компромиссы. Но лишить меня этого – значит лишить меня родины, потому что для меня родина – это прежде всего мой театр. Ну и, конечно, мои близкие, русский язык, перед которым я преклоняюсь, и великая русская культура, которой я в меру своих сил пытаюсь служить всю жизнь. Мне другого счастья не надо! Меня можно поманить к кому-нибудь на яхту отдохнуть. Буду ли я там счастлив? Буду, но лишь временно. Мне этого будет мало, хотя многие избирают именно такие заменители счастья. Я их не осуждаю – это их выбор, это их право, лишь бы они при этом не делали зла другим людям.
– Марк Григорьевич, мне кажется, что самая важная задача в мире – это спасение человеческой жизни, помощь человеку. А под силу ли это театру?
– (Смеется.) Театр может всё! Он может и содействовать убийству, в том смысле что анализирует, как человек приходит к убийству. Я вот поставил спектакль «Убивец», там мы вместе с Достоевским как раз этим вопросом и занимаемся. Человеку свойственно грешить, но ему приходится нести ответственность за свой грех. Если человек не чувствует своей ответственности, он, как правило, кончает трагически. Я никому не хочу пожелать этих трагедий, но и сам про себя могу сказать, что я не безгрешен. Вместе с тем мне хочется думать, что хотя бы в театре я сам себе отпускаю свои грехи. Тем и живу (улыбается).
– Театр отображает жизнь. А на ваш взгляд, какие человеческие качества важны в жизни?
– Вынужден отвечать банально: я люблю людей целеустремленных, подчиняющих свою жизнь какой-то цели и неукоснительно следующих к ней. Людей, которые находятся в поиске. Может, они знают далекую цель, мыслят стратегически, но не знают, как до нее добраться, и это заставляет их метаться, иногда совершать необдуманные поступки… Такие люди мне гораздо интереснее, чем люди одномерные. Мне интересны сложные характеры, люди с тайной… Мне хочется разгадать другого человека, войти в его внутренний мир. Как человек театра я, собственно, этим и занимаюсь.
Я любопытен ко всем, но особо интересные фигуры преступников, людей со странной психикой, беззащитных, не уверенных в себе. Именно такие люди в театре становятся объектами искусства, а не некие «герои нашего времени». Хотя и их, наверное, порой тоже можно копнуть (смеется) и, может быть, найти в них глубины и червоточины… Если человек без червоточины, то пусть останется на плакате. А вот с человеком, у которого горе, который мечется, – с ним мне бы хотелось познакомиться поближе. С ним будет не просто интересно – мы можем испытать потрясение от того, что мы найдем в его глубинах. Этим и должно заниматься искусство. А плакатные люди – это не искусство, а социалистический реализм.
– Люди зачастую ждут от театра волшебства. А сам человек может стать в театре волшебником?
– Да, я волшебник! (Улыбается.) Я каждый день творю колдовство. Театр – это занятие, смысл которого заключается в том, что я ирреальное делаю реальным, а реальное – ирреальным. Вы приходите на спектакль, садитесь в кресло и наблюдаете выдуманную жизнь. Для вас ее нет: вы живете в конкретном материальном мире, здесь и сейчас. Но когда вы приходите в театр, вы забываете, откуда пришли. Я обрушиваю на вас другое время и другое пространство. Я вас захватываю, и вы улетучиваетесь вместе со мной в то приключение, которое придумал поначалу драматург, а потом режиссер вместе с актерами. И вы выходите с головокружением от этого путешествия (улыбается).
– Вы бы могли описать образ театра?
– Не задумывался над этим. Могу только сказать, что это живое существо, но неосязаемое. Это живое существо, которое имеет момент рождения, периоды развития, зрелости, старости… Однажды твой спектакль заканчивает свою жизнь. Театр в этом смысле сравним с человеком. Все мои спектакли – это мои разновозрастные дети. Я поставил около 200 спектаклей, и все они прожили или живут какой-то отрезок жизни. Вот сейчас я снял из репертуара два спектакля. Оба мне лично нравились – это мои дети, в них вложено колоссальное количество усилий, они имели большой успех на премьере. И вдруг наступает момент, когда выясняется, что на них продано всего несколько билетов… Они – мои драгоценности, но я вынужден был их спустить в унитаз…
– Может, их можно будет восстановить? Или спектакли сняты окончательно?
– Я работаю в государственном театре, и у нас на двух сценах в репертуаре 55 спектаклей! Понимаете, это огромное количество, так сказать, живых созданий, и когда я понимаю, что спектакль умирает, когда оказывается, что публика стала хуже реагировать и живое качество, которые я ценю превыше всего, куда-то улетучилось, – это такая естественная гибель.
Но некоторые мои спектакли – я не хвастаюсь, лишь констатирую факт – идут более 30 лет. Например, «Доктор Чехов» с успехом идет 39 лет. Понимаете, когда приходится отказываться от живого спектакля – это не просто драма. Это все равно что японец сделает себе харакири. Это очень больно. Я плачу, я не сплю ночами…
В пандемию люди стали меньше ходить в театр, к тому же к нам сейчас пускают только с прививками. Ну, не продали билеты раз, не продали два… Можно, конечно, переждать… Но, во-первых, я делаю новое, а наш репертуар не может быть резиновым. Ну и еще десятки других причин, по которым спектакль приходится снимать, принимая невыносимо тяжелое решение. Что делать… Наш театр 39 лет аншлаговый, и если какой-то спектакль не вызывает бешеного интереса публики, то, как бы я этот спектакль ни любил, я вынужден стиснуть зубы и сказать, что этот спектакль приказал долго жить…
– Марк Григорьевич, над чем вы сейчас работаете?
– Ставлю «Лолиту». Этo пьеса американца Эдварда Олби по Владимиру Набокову. Поскольку наше общество отстало от гендерных проблем, которые переживает весь мир, я им хочу преподать урок. К Новому году сделал мюзикл «Три мушкетера». Пандемия требует, все хотят немножко развлечься. И поскольку я к «Трем мушкетерам» имею непосредственное отношение – я писал сценарий этого фильма, – то теперь мы поставили мюзикл на музыку Максима Дунаевского и стихи Юрия Ряшенцева.
– А какую роль играет театр в становлении личности ребенка? Или театр – это для взрослых?
– Ребёнки тоже разные бывают – разных лет и разного развития. Ребeнок, конечно, смотрит более наивно, но это не значит, что он не разбирается в том, что видит. В период пандемии я написал три оригинальные пьесы и одну сценизацию – «Каштанки» по любимому мной Чехову. На будущее – я не знаю, когда я ее поставлю: денег на «Каштанку» нет, сейчас дети в театр не ходят, их не пускают. Хотя «Каштанка» – это и для взрослых, и для детей. Это душераздирающая история, полная и какого-то юмора, в том числе черного.
Вы спрашивали о счастье… Для меня это было счастье – писать эту пьесу по Чехову, потому что я словно общался лично с Антоном Павловичем. Но будет ли такого рода счастливая встреча со зрителями, я сегодня сказать опасаюсь. Хочется верить, но, как сказал сам Антон Павлович после премьеры «Дяди Вани», никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Если сам Антон Павлович не знает, как же мы можем утверждать, что нас ждет успех?
– Марк Григорьевич, у вас вышел цикл спектаклей «Лента поэзии». А кого бы вы назвали своим любимым поэтом и почему?
– Я уже говорил вам, что мои спектакли – это мои дети. Если спросить родителей, к какому из своих детей они лучше относятся, они чаще всего не смогут ответить. Вот и я не могу. Каждый новый спектакль для меня – это рождение моего ребенка, и он мне очень дорог. Я поставил 12 спектаклей из цикла «Лента поэзии» – там и Пушкин, и Цветаева, и Есенин, Эрдман, Юнна Мориц, Левитанский, Самойлов и Слуцкий, Симонов… И в планах у меня еще около 50 поэтов. Когда попадаешь в их озера, моря и океаны, начинаешь там плавать, получаешь фантастическое удовольствие, потому что открываешь для себя их миры.
– А Маяковский в этом цикле есть?
– С Маяковским сложно. Я его в детстве очень любил, потом разочаровался. Он гениальный поэт, но его приспособленчество и трагическая судьба, которая, может быть, в какой-то степени его оправдывает… Это, безусловно, трагическая фигура. Человек, который пошел на продажу своего таланта. И с того момента, как я это понял, я вместе с ним эту продажу переживаю. Поэтому он остается моим любимым поэтом, но мне также интересно его противоречие. Мне он интересен не как великий поэт революции, а как футурист, писавший гениальные стихи до революции. Позже он восхвалял насилие, от которого меня тошнит. Это предательство самого себя интересно проанализировать, выявить трагедию в его стихах и поступках. Да, он заслужил, наверное, памятник, но не столько как поэт, восславивший эту преступную систему… Он заблуждался. Но рядом с ним были люди, которые освобождались от своих заблуждений. Судить сегодня всех этих людей нельзя, но можно анализировать их поведение. Надо понимать, что такое оды Мандельштама в честь Сталина, чем определялось отношение Пастернака к Сталину, чем мотивировал себя Булгаков, когда писал пьесу «Батум», но при этом не потирать руки, приговаривая: вот каковы гении и какова цена их гениальности, – а пытаться их понять. Потому что они жили в страшную эпоху. С одной стороны, они должны были сохранить себе жизнь, а с другой – не стать марионетками. Как у Пастернака: «Ты – вечности заложник. У времени в плену». «Вечности заложник» – потому что они понимали, что такое вечные ценности. А «у времени в плену» значит, что к тебе не сегодня-завтра постучат в дверь… Это было зверское время, и сталинщина в этом смысле абсолютно сродни гитлеризму. Нам легко с высоты сегодняшнего дня судить, хотя мы имеем множество примеров того, что и со сталинщиной, и с нацизмом не покончено.
– Несколько лет назад стартовал проект «Последний адрес»: на домах людей, репрессированных в сталинское время, устанавливают памятные таблички с их краткой биографией. Процедура может длиться годами, поскольку нужно согласовать установку со всеми жильцами дома и проект часто получает отказы. Чем можно объяснить такое пренебрежение к собственной истории или страх перед ней?
– Не нужно быть наивными: эти запреты – это и есть государственная политика нашего времени. Когда не решены главные вопросы, тогда это частность, которая есть результат гораздо более серьезных позиций – как высказанных, так и невысказанных.
– Мы с вами беседуем в театре, а недалеко, на Арбате, стоит в одиночном пикете женщина с плакатом в защиту Юрия Дмитриева. Марк Григорьевич, ведь всегда находятся смелые люди…
– Постойте около нее – через 15 минут ее заберут. Я бы сказал, это не смелые люди – это честные люди. Смелых людей много, а честных мало. Смелость – это вторичное.
– Марк Григорьевич, многие ваши спектакли, как, например, «Харбин-34», посвящены событиям XX века. Вы автор книги «Папа, мама, я и Сталин» и одноименной пьесы, по которой вы поставили спектакль в 2017 г. В 2020-м вышел спектакль «Фанни». Почему события XX века так важны для вас?
– Это моя жизнь. Многое происходило на моих глазах. В том числе и множество трагических событий нашей истории. Что-то мы узнали позже, когда началась перестройка и после нее. А сейчас наша страна быстрыми шагами возвращается в сталинизм. И это не просто печально, это опасно, потому что новое поколение, не знавшее тех преступлений, легко обмануть и повести в противоположную от гуманизма сторону. Вот для того, чтобы этого не случилось, я и пишу пьесы, имеющие документальную первооснову, которую я дополняю своей фантазией. Это такой жанр фэнтези на документальной основе. Поэтому зритель, пришедший в театр, с одной стороны удивляется тому, что он не знал чего-то в истории, а с другой – он оказывается способен размышлять над всем этим и будит собственную фантазию. И каждый в соответствии со своим опытом воспринимает то, что предлагает театр. Дело в том, что некоторые мои пьесы в некотором смысле автобиографичны: «Фанни», «Папа, мама, я и Сталин». Там факты не просто моей биографии, это история моей семьи.
– И «Фанни» тоже?
– Да. Дело в том, что мой отчим Григорий Захарович Розовский – родной брат жены Павла Малькова. Это был первый комендант Смольного и первый комендант Кремля во времена революции. Они были старые большевики. Мальков лично расстрелял Фанни Каплан. Это раз.
Во-вторых, на последних страницах романа Льва Толстого «Воскресенье» есть эпизоды, когда Неклюдов по тюрьмам ищет Катюшу Маслову. И в одной из тюрем ему рассказывают историю некоего мальчика по имени Иосиф Розовский. Это мой предок, опять же по линии отчима. Но самое интересное, что Фанни Каплан хотела убить киевского генерал-губернатора, который повесил моего 18-летнего предка как еврея-революционера, о чем подробно написал Толстой. Фанни арестовали и приговорили к смерти, но потом казнь заменили пожизненным заключением, потому что Каплан было 16 лет. После Февральской революции всех политкаторжан выпустили, но Фанни уже попала под влияние известной эсерки Марии Спиридоновой. Дальше у нее был роман с братом Ленина, который лечил ее в Ялте. А потом она якобы стреляла в Ленина. Ее поймали и казнили в Кремле: Мальков лично расстрелял, а потом сжег ее тело в бочке с бензином. Такова ее судьба, хотя до сих пор не выяснено, кто стрелял: почти слепая Фанни или кто-то другой. Моя версия: она стреляла, но попала не она, а еще один стрелявший. А вот кто стрелял и зачем – это самое интересное. Этот вопрос я и исследую в спектакле «Фанни».
– Зрители восхищаются вашими спектаклями, приходят к вам снова и снова. У вас почти каждый месяц выходит новый спектакль, один лучше другого. Как театру «У Никитских ворот» удается держать такую высокую планку? В чем ваш секрет?
– (Улыбается.) Во-первых, нет никаких секретов. Во-вторых, я просто работаю каждый день – вот и весь секрет. Хотя слово «работа» не совсем верное: театр – это игра, а не работа. А играть можно с утра до ночи, если тебе интересно. Да, игра требует усилий – иногда ты устаешь и тебе хочется сделать перерыв. Но я не считаю театр работой. Работа – это у станка, а мы эдакие праздные счастливцы. Разве это работа? Это игра: мы придумываем и воплощаем. Можно громко сказать, что в профессии режиссера есть что-то общее с Создателем: мы оба придумываем миры. Каждый спектакль – это некий мир, который я обязан сделать убедительным и заразительным. Если это удается, то этот мир становится живым. Это, собственно, и весь секрет. Ну, безусловно, есть секреты профессии. Каждый спектакль требует своих подходов, своих режиссерских решений, своих мук… Я, кстати, люблю заблуждаться и вылезать из заблуждений. Это самое увлекательное.
– Марк Григорьевич, в завершение нашей беседы что бы вы пожелали читателям «Еврейской панорамы»?
– Я всегда желаю всем евреям одного: не терять чувство нашего единства во всех ситуацияx. Судьба еврейства всегда зависела от нашей способности к выживанию и от нашей жизнеутверждающей энергетики. То, что пережил наш народ, не сравнимо ни с чем. Это не наша заслуга. Заслугой является то, что есть Израиль и есть мы, связанные единым духом и судьбой. Это надо ценить, беречь и быть ко всему готовым, потому что все наши самые страшные беды возникали, когда мы были не совсем готовы к худшему. А еврей должен всегда, в каком бы счастье он ни пребывал, знать, что может в любой момент из любого угла получить удар. И должен уметь ответить. К сожалению, сегодня этого боевого настроения стало не хватать, и это большая опасность для нас. Будем бдительны!
А еще всем рекомендую посмотреть фильм Николая Сванидзе «Гетто» – это бомба! Как член Общественного совета Российского еврейского конгресса я также призываю, хотя многим это и не нравится, говорить о советском холокосте, жертвами которого тоже стали миллионы людей: убийство Михоэлса, «дело врачей», уничтожение Еврейского антифашистского комитета, расстрелы, пытки… Был гитлеровский Холокост, а был советский.
Уважаемые читатели!
Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:
старый сайт газеты.
А здесь Вы можете:
подписаться на газету,
приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,
а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Даты и люди

Неизвестный подвиг комбата Либмана
Почему французский генерал отдавал честь бело-голубому флагу со звездой Давида

«Любите свой народ больше, чем самих себя»
Беседа с почетным президентом Российского еврейского конгресса Юрием Каннером
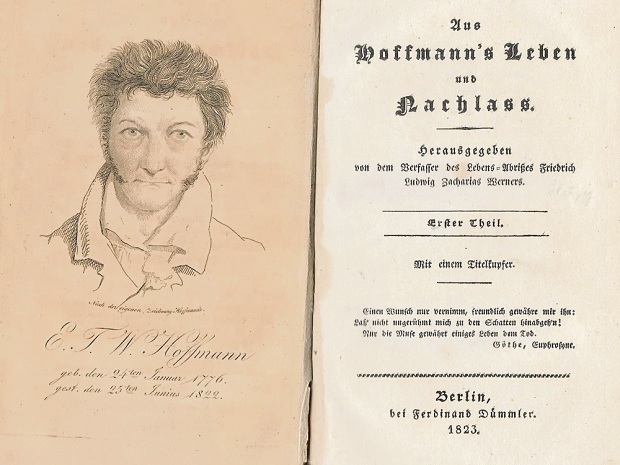
Еврейские друзья и знакомые Э. Т. А. Гофмана
К 250-летию со дня рождения писателя, композитора и художника