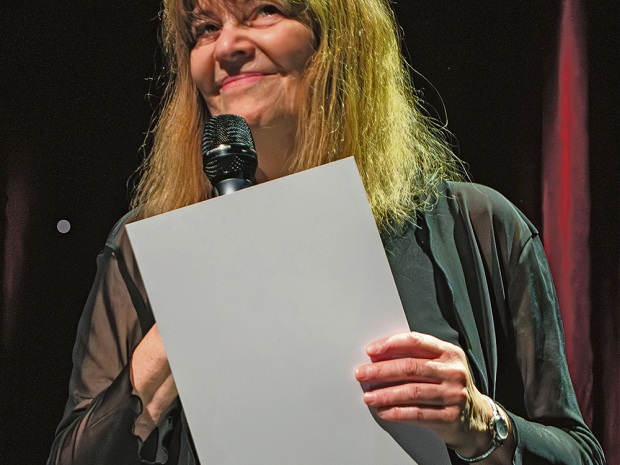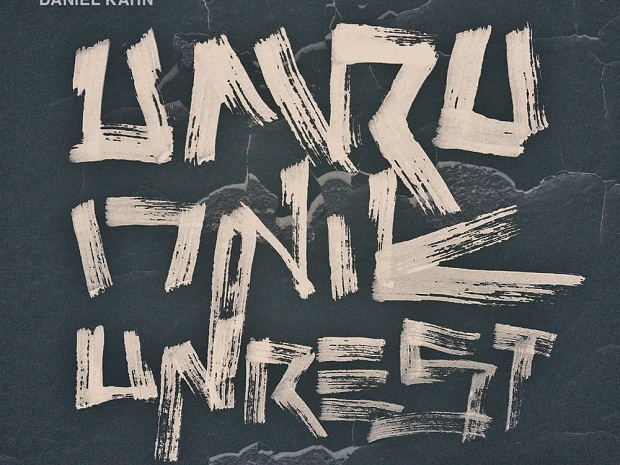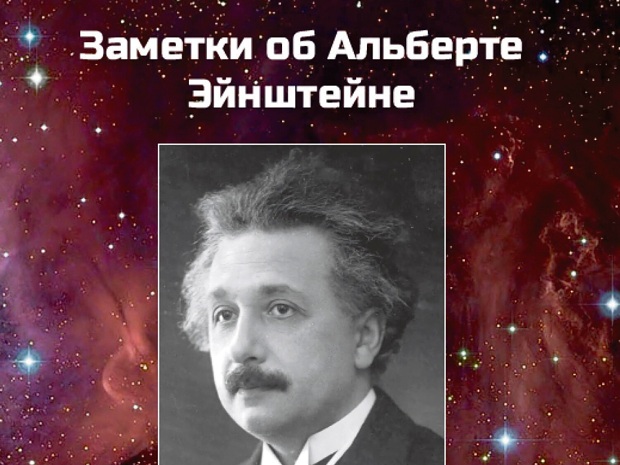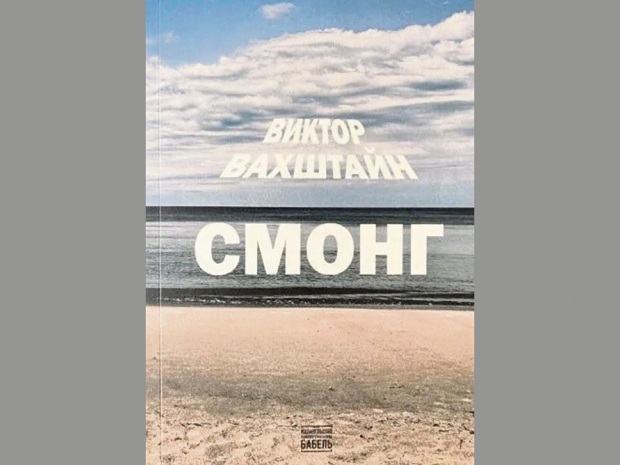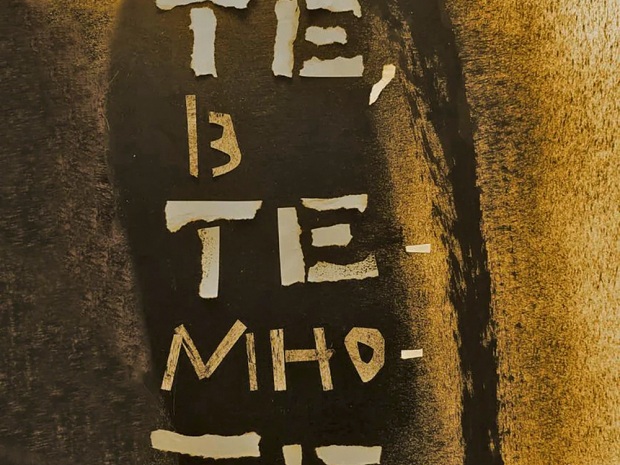Классики и их семитские современники
Беседа с Марком Уральским о его книгах и родстве с Троцким

Марк Уральский
Писатель, живущий в Германии, выпустил в свет ряд документальных книг об отношении русских классиков к наиболее гонимому и ограниченному в гражданских правах народу Российской империи («ЕП» уже помещала их анонсы). Чехов ратовал за равноправие евреев, но с неприязнью относился к их ассимиляции, Бунин переписывался с основателем Общества ремесленного труда, да и с Достоевским не всё было однозначно. Наша беседа состоялась по заданию редакции «Еврейского журнала».
Праведник Бунин
– Чем вы руководствовались при выборе очередного писателя? Существуют более явные кандидатуры на препарирование их отношений с евреями, от юдофоба Достоевского до филосемита Короленко.
– Вообще-то эта тема возникла совершенно случайно. Раньше я занимался историей искусства советского андеграунда, «второго русского авангарда», как его называет живущий в Израиле представитель этого движения Михаил Гробман. Я обратил внимание на то, что русско-еврейские культурные отношения были недолгими. Это, условно говоря, полстолетия, с 1867-го по 1917-й. В советское время ситуация была совершенно иной, «русско-еврейских» отношений как таковых не существовало, все мы официально считались «советскими людьми».
Евреи появились на русской культурной сцене и стали объектом внимания русских писателей только с середины XIX в., когда император Александр II открыл дорогу широким еврейским массам к цивилизованной государственной жизни. За это время были накоплены все крупные еврейские капиталы, евреи вышли на русскую общественную и культурную сцену, стали знаменитыми банкирами, художниками и даже генералами. И в это же время происходила яркая встреча между еврейской и русской интеллектуальной мыслью. Меня интересовали великие имена, а не какие-то полузабытые или маргинальные фигуры.
– Огласите список.
– Считая с середины XIX в., в русской литературе имеется пять писателей-классиков: Тургенев, Достоевский, Толстой, Горький и Бунин. Я очень уважаю Владимира Короленко, это замечательный писатель и прекрасный человек, но он, к сожалению, не входит в ряд великих русских писателей. Так же, как туда не входят Глеб Успенский, Александр Куприн, Леонид Андреев, Федор Сологуб и Дмитрий Мережковский, хотя эти выдающиеся писатели имели прямое отношение к жаркой дискуссии в российском обществе по еврейскому вопросу.
Когда я начинал тему «Бунин и евреи», это вызвало удивление, поскольку считалось, что в силу декларированной им аполитичности писатель дистанцировался от еврейской тематики. Но когда мною были собраны и обобщены все архивные материалы, мемуары и обширнейшая переписка Бунина с современниками, выяснилось, что Бунин очень тесно по жизни был связан с евреями. Эти связи, в отдельных случаях задушевные дружеские отношения, во многом способствовали и его литературному признанию за рубежом, и выживанию в эмиграции.
Но в случае с Буниным, как мне представляется, особенно важным является совсем другой аспект его отношений с евреями. Этот русский писатель являет собой пример истинного гуманиста. То, что его гражданский подвиг – спасение трех еврейских жизней в годы нацистского террора – не оценен до сих пор по достоинству и этот искренний друг еврейского народа не входит официально в число Праведников народов мира, чудовищная несправедливость, мотивированная явно политическими соображениями.
Не знаю, буду ли я писать о Тургеневе. Дело в том, что он мало жил в России: больше половины жизни писатель провел за границей. Там у него действительно образовались достаточно тесные связи с еврейской интеллигенцией. В частности, Иван Сергеевич Тургенев познакомил Льва Толстого с евреями, например со столь ценимым Толстым Бертольдом Ауэрбахом. Этот выдающийся немецкий писатель-почвенник, которого потом забыли, по происхождению и вероисповеданию еврей и никогда от своего еврейства не отказывался.
– Ну, где граф, а где бесправные жители «черты оседлости»!
– Да, для Льва Толстого, русского аристократа, большую часть жизни прожившего в местах, далеких от черты еврейской оседлости, евреи как фактор личного общения и интеллектуального интереса появились только на пороге его 60-летия – в 1880-х гг.
– Как происходит работа над книгой «Такой-то писатель и евреи»? Есть полное собрание сочинений этого автора. Имеются архивы. Что еще?
– Я успешно работаю исключительно благодаря Интернету. Если бы его не было, я не написал бы ничего. Толстововедение представлено в интернетном пространстве достаточно полно. Очень помогла мне доброжелательность сотрудников московского Государственного музея Льва Толстого, в частности заместителя директора по научной работе Людмилы Калюжной. Научные сотрудники ИМЛИ Сергей Николаевич Морозов и выдающийся российский ученый, историк литературы и библиограф Олег Анатольевич Коростелёв, к сожалению недавно скончавшийся, очень помогли мне в поиске материалов для книги «Бунин и евреи». Сегодня крупнейшим чехововедом в России является Владимир Борисович Катаев. Он также любезно и доброжелательно отнесся к моей скромной особе, никогда не отказывал в консультациях по чеховской теме.
Простолюдин из Таганрога
– Давайте поподробнее коснемся Чехова, творчество которого принято делить на раннее и позднее. С одной стороны, это юмористические рассказы Антоши Чехонте, с другой – психологическая проза зрелого Антона Павловича Чехова. Первый евреев в числе прочих высмеиваемых им «типажей» вроде бы недолюбливал, второй им сопереживал. Как, по вашему мнению, его можно охарактеризовать с точки зрения отношения к русскому еврейству?
– Мне кажется, что все жесткие определения типа «юдофоб» или «филосемит» – это очень грубые и поверхностные оценки. Чехов – первый русский писатель, который с детства жил в русско-еврейской среде. Он даже вполне серьезно хотел жениться на еврейке и, хотя женитьба не состоялась, до конца жизни не прерывал дружеских связей со своей первой избранницей и ее мужем, правоведом и издателем газеты. Именно поэтому отношение Чехова к евреям носило отнюдь не метафизический, идейный характер, как, скажем, у Достоевского. Это был уровень повседневного бытового общения с конкретными людьми, постоянное столкновение не только с разными характерами, но и с чужой ему как русскому человеку ментальностью.
По моему мнению, у Чехова, являвшего собой очень цельный в духовном отношении тип русского националиста, была определенная охранительская позиция в отношении вхождения евреев в русскую культуру. Чехов одно время опасался, что евреи могут внести в русскую культуру нечто такое, что повредит ее исконному своеобразию, национальной самобытности. При этом он отнюдь не выступал за какие-либо правовые ограничения в отношении евреев.
Имелись в его представлениях о евреях и очень личные, связанные с отголосками антисемитских взглядов, бытовавших в среде мелкого купечества, стереотипы. Отец Чехова, человек достаточно культурный, в жизни являл собой тип предпринимателя-неудачника. В то же время в родном для Чехова портовом городе Таганроге было много очень успешных евреев-предпринимателей, что подпитывало чувство неприязни к евреям в целом со стороны конкурентов-христиан.
В отличие от большинства русских писателей ХIХ в., Чехов по рождению был, что называется, простолюдин. Данное обстоятельство тоже сказывалось на его самооценке и взаимоотношениях с людьми. В гимназии, например, он находился в плотном еврейском окружении, которое было представлено энергичными и, как правило, состоятельными евреями. С бедными евреями из числа гимназистов Чехов дружил, от богатых старался дистанцироваться. Но, как говорят свидетели времени, Чехов-гимназист всегда вступался за евреев в критических ситуациях.
– Можно конкретный пример?
– В воспоминаниях его соучеников описан случай, когда гимназист-еврей дал пощечину однокласснику, назвавшему его жидом. За это еврея хотели исключить из гимназии. Чехов стал закоперщиком коллективного протестного обращения к директору гимназии со стороны всех учеников класса против исключения их товарища. И администрация сочла за лучшее оставить этот инцидент без последствий.
Невостребованный джентльмен
– Давайте отойдем в сторону от русских классиков и займемся человеком, который ассимилировался вполне успешно, включая научное и творческое признание. Ваша книга о Марке Алданове – это первое биографическое произведение, посвященное этому незаурядному человеку. В свое время Алданов считался звездой литературного зарубежья. Тем не менее на постсоветском пространстве его принято относить к писателям второго, если не третьего, эшелона. С чем это связано?
– Тут играет роль исторический фактор. Никто из русских писателей, заявивших себя в эмиграции, кроме Владимира Набокова, а также писателей, ушедших в эмиграцию, кроме Ивана Бунина, не попал в первый эшелон мировых литературных знаменитостей. Алданов – писатель эмигрантский от начала и до конца. Он выступил как литератор только за рубежом. В царской России его не знали, он опубликовал всего одну работу литературно-публицистического характера – «Толстой и Роллан», которая, скорее всего, из-за военной ситуации того времени не была замечена и по достоинству оценена критикой.
Впрочем, не один Алданов нынче мало востребован. Ну кто, скажите, сейчас читает исторические произведения Алексея Толстого? А ведь он почти классик, писатель очень высокого полета. Его «Петр Первый» – шедевр, да и первая книга трилогии «Хождение по мукам», несомненно, представляет большой исторический и художественный интерес. Читательский интерес – проблема очень серьезная и малоизученная, хотя маркетологи ею постоянно занимаются.
– Талант – ничто, имидж – всё?
– Не совсем. Между двумя этими характеристиками писательского успеха существует неразрывная связь. Тот же Иван Бунин – замечательный писатель, очень уважаемый в современной России, но я глубоко убежден, что, кроме сборника рассказов «Темные аллеи», его дореволюционные произведения – в первую очередь о крестьянской России – у широкого читателя интереса не вызывают. А вот имидж у Бунина огромный и действительно заслуженный. У Алданова такого имиджа, естественно, нет: и по уровню дарования, и по многим другим, в первую очередь политическим причинам. К тому же он был человеком очень скромным, вот и оказался в тени.
Алданов – интереснейшая фигура на русском литературном ландшафте. В русском зарубежье он был незаменимым, любимым и нужным человеком среди всех групп эмигрантов: и у правых, и у либеральных демократов, к стану которых и сам принадлежал как член партии народных социалистов (эсдеки). Его все, независимо от партийной принадлежности, уважали. Как сказал Бунин, он был последним джентльменом эмиграции. Я так и назвал книгу: «Марк Алданов. Писатель, общественный деятель и джентльмен русской эмиграции».
– Насколько Алданову была важна еврейская идентичность?
– Марк Александрович Алданов (Ландау) и культурно, и духовно был глубоко русский человек. Он никогда не стеснялся своего еврейства, но и не акцентировал его. Примечательно, что он являлся правнуком знаменитого пражского раввина Йехезкеля Ландау. В роду у Алданова имеются выдающиеся талмудисты, я это раскопал в пражских и венских архивах. Но все это его не занимало, он был типичным полностью ассимилированным русским евреем.
Марк Алданов был еще и энциклопедически образованным человеком, он окончил два факультета в Киевском университете св. Владимира: физико-математический и юридический, а затем Высшую школу во Франции. Владел тремя языками, но не говорил ни на идише, ни на иврите.
– Я все-таки не сверну с маркетинговой линии. Давайте разрекламируем Алданова нашим читателям. С какой книги им начать?
– Очень рекомендую «Истоки». Ведь это единственная художественно-историческая книга о периоде царствования императора Александра II. Личность Александра II не раскрыта в русской исторической литературе. Это удивительный феномен русского культурологического поля: царь, чья роль в мировой истории уникальна, оказался сегодня в «свободной России» никому не интересен. Николаем II, который вогнал свою страну в кровавую гражданскую войну и погубил трехсотлетнюю династию, а с ней и великую империю, интересуются все. А его дед, который на треть расширил территорию Российской империи, освободил крестьян, провел либеральные реформы, победил во всех войнах, освободил славянские народы от османского владычества, никого не интересует.
Секрет фамилии
– Недавно была опубликована ваша статья об Обществе ремесленного труда (ОРТ) и одной из его ключевых фигур – Илье Троцком, вашем родственнике. Как вы узнали о его существовании?
– Мне было лет шестнадцать. Я гостил в семье своего отца в казахстанском Джезказгане, где он работал главным механиком крупнейшего в СССР горно-металлургического комбината. Как-то раз мой дедушка Яков Маркович Уральский, которому было тогда уже за 80 лет, сидел в кресле и предавался воспоминаниям, как это принято у пожилых людей. Сначала он спросил, не обижают ли меня одноклассники как еврейского мальчика. Затем внезапно сказал: «Знаешь, наша настоящая фамилия – Троцкие. У меня был брат Илюша, он крестился, работал в черносотенной газете. Потом он не принял большевиков и остался на Западе. Умер он в Южной Америке». Мой дядя, ставший свидетелем этого разговора, страшно перепугался, побледнел и закричал отцу: «Яша, что ты несешь?! Ты не помнишь, как твоего внука зовут, а тут придумал какого-то брата за границей. Да еще Троцкого!»
– Чем была вызвана столь резкая реакция? Родственник за границей – это, конечно, нехорошо по тогдашним советским меркам, но и не такая уж редкая вещь.
– Дело в том, что мой отец и дядя проходили по последнему расстрельному сталинскому делу «О сионистской организации на Кузнецком металлургическом комбинате», имевшему выраженную антисемитскую окраску. По нему было привлечено к ответственности более 260 человек, четверых – все они евреи – расстреляли. К счастью, мой отец и дядя уцелели, но были репрессированы, лишены всех наград и сосланы. Мой отец – крупный советский инженер, лауреат Сталинской премии, когда его выдвигали, он должен был сменить фамилию. После смерти Сталина их, как и всех безвинно осужденных, полностью реабилитировали, восстановили в правах, вернули все награды и звания. Однако страх перед репрессиями оставался.
После кончины моей мамы, с которой мы не раз обсуждали наши семейные предания, я вдруг вспомнил о рассказе дедушки и плотно занялся этой темой. Оказалось, что Илья Маркович Троцкий до революции был известным русским журналистом-международником и активным еврейским общественником. Именно благодаря его переписке с Буниным и Алдановым, открытой мною в его архиве, я и занялся темой «Бунин и евреи». По всему выходило, что русский писатель-классик получил Нобелевскую премию во многом благодаря лоббистским усилиям группы евреев, в том числе и моего двоюродного деда, пользовавшегося авторитетом в литературных кругах Швеции. Мне удалось полностью реконструировать жизненный путь Ильи Троцкого. Где-то в 1904–1905 гг. он начал появляться в Петербурге, стараясь завести знакомства в литературных кругах. Посещал салон Федора Сологуба, подружился с очень популярным в те годы священником-либералом Григорием Петровым, с сатириконцем Дон-Аминадо и писателем и драматургом Осипом Дымовым…
– Он действительно сотрудничал с черносотенцами?
– Ни в какой черносотенной прессе Троцкий не работал, тут дедушка что-то напутал. Он начал свою деятельность в русской прессе с либерально-демократической газеты «Русь», которую издавал Алексей Суворин – младший, сын известного издателя и публициста крайне правого направления Алексея Сергеевича Суворина. Суворин-младший до разрыва с отцом действительно был декларативным антисемитом, но затем, что называется, «сменил вехи» и стал либералом.

В 1906 г. Илью Троцкого, который тогда жил в Вене, пригласил в «Русское слово» легендарный книгоиздатель Иван Сытин. Ему как раз нужен был корреспондент в Германии, а мой двоюродный дед к тому времени выступал в Австрии и как журналист местной прессы. С этого времени Илья Троцкий, ставший одним из любимых журналистов Ивана Сытина, постоянно жил в Берлине, посещая Россию лишь наездами.
Илья Троцкий с молодых лет стал сотрудничать с ОРТом, являлся в 1920–1930-х гг. секретарем создателя Всемирного ОРТ Леона Брамсона, а затем, посланный им в Южную Америку, сам стал одним из организаторов южноамериканского подразделения этого общества, его вице-президентом. Сегодня созданный им образовательный центр ОРТ является крупнейшей учебной и научной организацией Аргентины.
– Троцкому не мешала его фамилия?
– Мешала, конечно, причем всю его эмигрантскую жизнь. Его часто путали с «иудушкой Троцким», Львом Давидовичем Бронштейном, отцом Октябрьского переворота и создателем Красной армии. Судя по сталинским расстрельным спискам, которые я внимательно изучал, фамилия Троцкий принадлежала как русским, так и евреям, полякам, украинцам и белорусам. Ее носили люди разных сословий и званий: священники и раввины, купцы и крестьяне, профессора, мелкие ремесленники и военачальники.
Был, например, царский генерал Виталий Троцкий, а также Ной Троцкий, выдающийся советский архитектор-конструктивист. Когда ему передали просьбу о том, что неплохо бы сменить фамилию, архитектор возмутился: «Это пусть тот Троцкий меняет, у него это псевдоним».
– Под конец у меня будет традиционный вопрос – о творческих планах. О Горьком, Бунине, Чехове и Толстом книги уже написаны. Кто следующий?
– Сейчас занимаюсь Достоевским. Достоевский и евреи – исключительно трудная тема. В ней много банальностей. В ту эпоху речь шла о религиозной конфронтации: евреи-де народ богоизбранный, но не признавший Христа в качестве Спасителя, поэтому, мол, русский народ-богоносец перенимает эту еврейскую идентичность на себя. Отсюда и ревность, и обиды, и поношения. До сих пор тема «Достоевский и евреи» остается открытой для широкой научной дискуссии.
Впрочем, об отношении Толстого к евреям и его связях с евреями тоже ничего не было внятно сказано до сего времени.
Мои творческие планы на этот и следующий год определены: работать над корректурой и макетом книги «Толстой и евреи» и собирать материалы для книги «Достоевский и евреи». Хочется всё успеть, а то, не дай Б-г, подцепишь ненароком коронавирус.
Поэт, прозаик, публицист
Марк Уральский родился в 1948 г. в Новокузнецке. С 1949 по 1992 г. жил в Москве, c 1992-го – в ФРГ. Автор большого числа научно-публицистических работ и документальной прозы. До начала перестройки не печатался. Участвовал в деятельности литературно-художественной группы «Мансарда» (Лев Кропивницкий, Лариса Зеневич, Константин Герасимов, Владимир Тучков, Мэльд Тотев, Генрих Сапгир и др.), московского Клуба поэтов и литературного семинара при журнале «Юность». Как поэт выступал под псевдонимом Николай Марин. Среди наиболее известных произведений, подписанных «Н. Марин», – статья «Евгений Леонидович Кропивницкий. Художник и поэт» и сборник стихов «Янус». С 1999 г. публикуется под своим именем в журналах «Вопросы литературы» (Москва), «Зеркало» (Тель-Авив), «Крещатик» (СПб.), «Новый журнал» (Нью-Йорк) и др.
Уважаемые читатели!
Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:
старый сайт газеты.
А здесь Вы можете:
подписаться на газету,
приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,
а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство