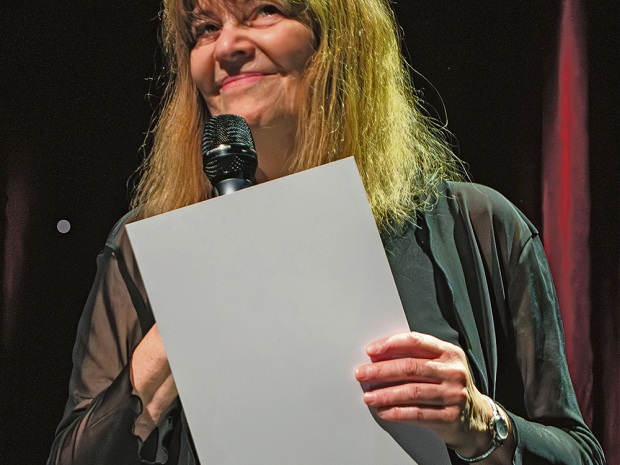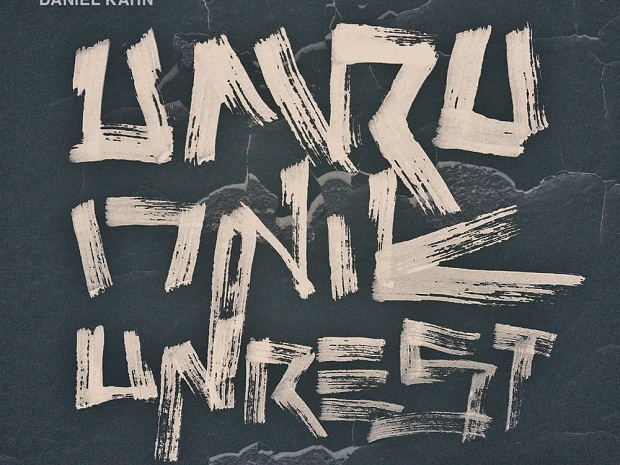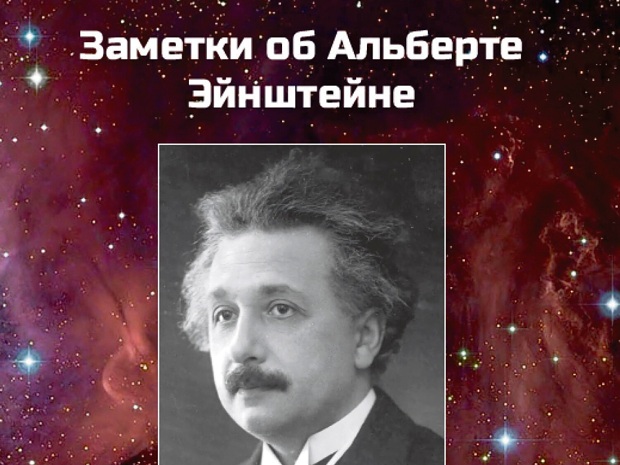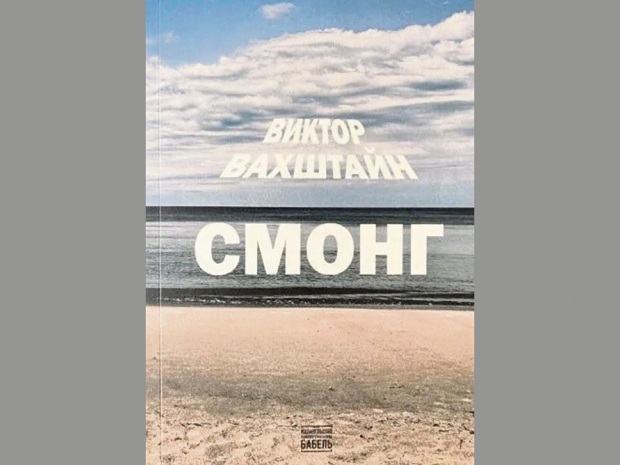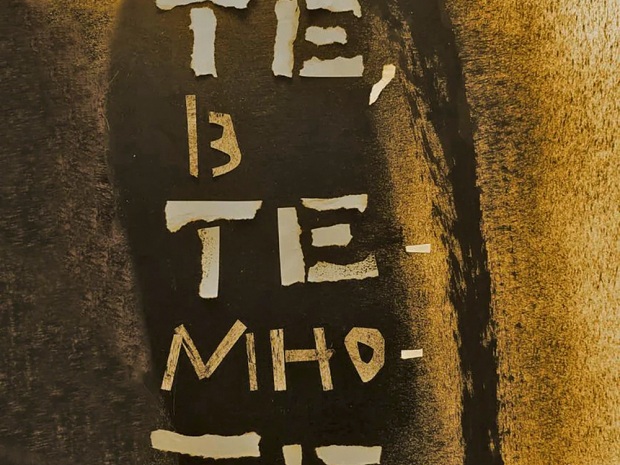Иду по дороге прошлого…
К 100-летию со дня рождения Анатолия Алексина

Анатолий Алексин с женой © Wikipedia
Известного советского писателя не стало в 2017 г., через несколько лет после него скончалась его жена и муза Татьяна Евсеевна Алексина – также писательница и общественный деятель. В редакционном портфеле наших коллег – израильского еженедельника «Секрет» – сохранилось ее интереснейшее эссе о том, как творил ее муж и кто был прототипом его героев. Мы хотим познакомить с ним наших читателей.
«Я обязан всё вспомнить и записать…» – эта строка из романа Анатолия Алексина «Сага о Певзнерах» – и далее: «А потом вырвать незначительное, способное лишь отвлечь. Вспомнить и записать…»
Я, конечно, не обязана, но очень хочу вспомнить и записать, как и для чего писались произведения писателя, что послужило исходным поводом, точкой отсчета для создания именно этого, а не иного рассказа, повести, романа…
К настоящему времени (сентябрь-октябрь 2010 г.) Анатолием написаны 97 рассказов, 42 повести и три романа. Разумеется, я не собираюсь рассказывать о каждом из этих произведений, но о некоторых постараюсь написать так, как это было на самом деле.
Коли я начала с цитаты из романа «Сага о Певзнерах», тогда уж вначале расскажу об эпопее, приведший к появлению первого романа, антифашистского, антиантисемитского, героями которого в творчестве русского писателя тоже впервые стали люди еврейской национальности. (Правда, в 1988 г. была напечатана повесть «Игрушка», переименованная затем в «Ночной обыск», где главный герой – отец девочки, от имени которой идет повествование, – был евреем. Но акцент написанного был направлен в другое трагическое русло. Расскажу об этом тоже (см. ниже).)
Наступили 1990-е гг. Во главе государства был «царь Борис», как тогда называли Бориса Николаевича Ельцина. Столь сложную фигуру во главе необъятной России не мне анализировать, давать ей оценки. Для того, чтобы определить, было ли это благом или нет для страны, уйдут годы. Многие лучшие умы и самого государства, и зарубежья должны общими усилиями – моральными, экономическими, историческими, политическими знаниями, – поставить правильный диагноз.
Я же начну рассказывать, как писатель, создававший книги для младшего, среднего и старшего возраста читателей, написал всеобширнейший, полный политического, экономического, психологического, нравственного анализа эпохи роман, охвативший большой период истории Советского Союза – от майских праздников Победы над фашистской Германией 1945 г. до 1900-х, неслыханного бегства народов из страны в разные уголки земного шара: лишь бы уехать и получить возможность обеспечить достойное будущее детям!
Свою книгу воспоминаний «Неужели это было?..» я закончила мучительным для меня расставанием – отъездом в 1989 г. дочери Алёны и внучки Анисии-Ани в Америку. Сопровождал их Анатолий, любящий отец и дед. Как сложится судьба девочек в чужой стране, мы не знали и не могли знать. Поэтому Алексин должен был оставаться с ними до тех пор, пока не определится их судьба.
В издательстве «Педагогика» по заключенному с автором договору должны были выйти три книги очень большими тиражами: «Прости меня, мама...», «Глядя в глаза» и третья, названия которой уже не помню, ибо она так и не вышла. Раздался звонок редактора, разъяснивший мне созревающую вокруг Алексина ситуацию:
– Татьяна Евсеевна, Анатолий Георгиевич вернется из Америки? Мы не знаем, как поступить с изданием его третьей книги…
– А почему вы решили, что он не вернется?
– Ходят разные разговоры…
– Но ведь вы разговариваете с его женой! Считаете, что он может бросить меня здесь на произвол судьбы? Мне кажется, что в Москве многие знают, с какой любовью мой муж относится ко мне, и знают, что он не может иначе, на что вы намекаете, поступить со мной в такой ситуации…
– Ну, знаете, Татьяна Евсеевна, сейчас никто ни за кого не может поручиться…
– Это ваше мнение и ваше решение, издавать книгу известнейшего писателя или не издавать только потому, что он, имеющий право на полугодовое визовое разрешение отсутствовать в стране, его использует. Да еще пока всего два месяца!
– Простите, но рисковать мы не можем.
Это был первый звоночек.
Анатолий попросил меня съездить в Союз писателей России, заплатить членские взносы и подать заявление на творческий отпуск. Он, творческий секретарь Союза писателей, имел право ежегодно получать творческий отпуск для работы над собственными произведениями. Чем пользовались все секретари, кроме Алексина. За многие годы он ни разу не попросил этого отпуска, так как был человеком сверхзагруженным общественными делами: имел более 20 ответственнейших обязанностей, что отнимало всё время и все его силы. Для работы, ради которой и был рожден на этот свет, оставались лишь ежегодные месячные отпуска.
Я поехала. Зашла к благороднейшему человеку – помощнице председателя Союза писателей. (Решила, что никаких фамилий, кроме некоторых, называть не буду.) Узнала, что ответственный секретарь Союза, которого Алексин и привел на эту работу, когда тот оказался выброшенным временем за борт, тоже распускает слухи, что Анатолий Георгиевич – невозвращенец.
Оттолкнув секретаря, сидевшего перед кабинетом своего начальника и пытавшегося преградить мне путь, я ворвалась, как фурия, в кабинет. Увидела, что рядом с ним, по правую руку, сидел Михалков, а по левую – Проханов. Я почти бросила в лицо Михалкова заявление Алексина о творческом отпуске, а «предателю благодетеля» громко крикнула: «А вы – вошь паршивая». Последовала заключительная сцена из «Ревизора». Все трое замерли и молча дали мне хлопнуть дверью. Прозвенел уже второй тревожный звонок…
В издательстве «Советская Россия» существовала специальная серия книг писателей, получивших Государственную премию РФ. Алексин такую премию получил. Сборник повестей был составлен, передан в издательство, вскоре мною уже была вычитана его верстка.
После возвращения Алексина из Америки, спустя два с половиной месяца, когда судьба Алены и Анисии-Ани была определена (дочке сделал предложение «руки и сердца» очень хороший человек, чистокровный американец, владелец мультипликационной фирмы), раздался звонок директора издательства (вот его-то фамилию я назову!) Бориса Миронова. Он очень вежливо попросил Анатолия встретиться.
– Дорогой Анатолий Георгиевич! Как я рад вас видеть. Вот я получил новое назначение. Теперь я директор издательства. Я давно и искренно люблю всё, что вы пишете. Можно сказать, воспитывался на ваших книгах. Поэтому мне очень неудобно сказать вам то, что я должен сказать. Но, став директором издательства «Советская Россия», я решил поменять профиль издания наших книг. Я хочу издавать исключительно книги писателей, для которых русский язык – родной язык.
Изумленный услышанным, Алексин спросил:
– А какой язык для меня, по-вашему, является родным языком? Я никаких языков, кроме русского, не знаю и ни на каких языках, кроме русского, ничего не писал…
– Анатолий Георгиевич, вы же понимаете, что я имею в виду…
Алексин понял, что перед ним сидит отъявленный антисемит и что разговаривать с ним – это только унизить себя. Поэтому, не попрощавшись, он покинул тот кабинет и то издательство.
Это был уже не звоночек, не звонок, а колокол…
16 апреля 1993 г. Алексин был приглашен в Бетховенский зал Большого театра на встречу президента России Б. Н. Ельцина с творческой интеллигенцией. Анатолий твердо решил выступить там в полный голос против бесцеремонных проявлений фашизма молодчиками из обществ «Память» и «Фронт национального спасения».
Собрались ведущие деятели литературы, театра, музыки: Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Михаил Ульянов, Галина Волчек, Марк Захаров, Нонна Мордюкова, Фазиль Искандер, Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Мария Миронова… Всех не перечислить, но ни одного реакционера, запятнавшего свое имя антисемитизмом, там не было. Председательствовал большой писатель, автор известнейших повестей «А зори здесь тихие», «Не стреляйте в белых лебедей», «В списках не значился», «Завтра была война» Борис Васильев. Они с Алексиным были друзьями, оба регулярно печатались в журнале «Юность».
Толя попросил Бориса дать ему слово первому, тот так и сделал: объявил Алексина. Пока Толя добирался до трибуны, с места резко поднялась Мария Миронова и громко, страстно произнесла несколько фраз, но каких! Она ударила в гонг: реакционерам спуску давать нельзя. Коль они агрессивно объединяются, должны объединиться и мы! Получилось, что она упредила речь Анатолия и уже ее поддержала…
А с трибуны, обращаясь напрямую к президенту России, Алексин сказал вот что: «Борис Николаевич, вы должны гораздо более решительно, нетерпимо относиться к сборищам молодых людей, которые, быть может, внуки тех, кто разгромил фашизм, а у них на лацканах фашистские значки. И в этом участвуют даже депутаты нашего парламента… Фашизму в любой форме, даже если он только зарождается, при первом же проявлении мы должны давать бой самый непримиримый».
Алексина поддержали все присутствующие в Бетховенском зале, откликнулся и президент. «Литературная газета» опубликовала тот «диалог с президентом», а все каналы телевидения продемонстрировали его по всей стране, и не один раз.
На следующий день бывший глава парламента Руслан Хасбулатов обозвал всех присутствовавших в Бетховенском зале «безродными деятелями культуры» (читай: «сионистскими»!) и созвал встречу с «деятелями» противоположного направления. Считай, сталинских воззрений.
Я, естественно, очень обеспокоилась всеми этими событиями. Нас стали успокаивать: «Ну, какие это фашисты? Балуются ребята… Вот и всё… Фашистские значки? Ну и что? Молодые люди любят напяливать на себя разные значки». Анатолий резко отвечал: «А я не люблю тех, кто любит фашистские значки! Я не люблю молодчиков со свастикой на руках и на лацканах. Я их даже ненавижу!»
В ответ «молодчики» возненавидели еврея Алексина. По ночам нам стали звонить и осыпать угрозами:
– Ты решил с нами помериться силами? Смотри… Вздернем на фонаре!
Алексин рассказал обо всем этом влиятельному чиновнику той поры.
– Не придавайте значения! Звонят? Хулиганят. Да они просто балуются, – он выдвинул ящик своего стола, достал увесистую кипу бумаг, посмотрел на первый лист и продолжил: – Вот, правда, у нас список общества «Память» людей на уничтожение. И вы стоите первым. Правда, по алфавиту… Кроме адреса, телефона написано даже, что в подъезде сидит дежурная. Но вы не волнуйтесь! Постараемся установить их номера. Постараемся. И защитим вас!
Никто никого не отыскал, хотя звонки продолжались.
Мы переехали на дачу, начался июнь… И вот русский писатель, который никогда не хотел знать, кто есть какой национальности, который никогда раньше не бывал в Палестине, открыл блокнот и написал первую фразу будущего романа: «Есть такой анекдот… Смешной и трагичный. Он именуется жизнью. Ее можно назвать и романом с вырванными страницами… Чтобы второстепенность не заглушила смеха и не спрятала слез. Но стены смеха на свете нет. А Стена Плача пролегла от Иерусалима по всей земле».
Роман «Сага о Певзнерах» – история семьи Героя Советского Союза Бориса Исааковича Певзнера, его красавицы жены Юдифи Самойловны и их детей-тройняшек.
«Приехав с фронта на недельную побывку – получать Золотую Звезду, – отец, видимо, задумал нагрузить маму сразу тремя детьми, чтобы ни на что, кроме них, у нее не осталось времени. Задумал – и осуществил».
Рассказ ведется от имени одного из этих троих детей – Сергея. Второго брата нарекли Игорем, а сестру – Дашей. Родились они в день взятия Берлина…
Пересказывать роман не буду. Это многогранная эпопея, охватывающая период с мая 1945 г., дня победы советских войск и войск союзников во Второй мировой войне над гитлеровской Германией и фашистской Италией, до начала 1990-х гг., когда миллионы граждан бывшего Советского Союза стали покидать свои очаги, разъезжаясь по всем уголкам земного шара, чтобы дать достойное будущее своим детям. Но не все дети получили такое будущее. Дети Певзнеров прошли через нечеловеческие испытания, приведшие к гибели почти всей семьи.
Посольство Государства Израиль знало, что Алексин пишет антиантисемитский, антифашистский роман. И когда в Москву с официальным визитом приехал тогдашний премьер-министр Ицхак Рабин, ему рассказали об этом. Последовало личное письмо премьера писателю Алексину с приглашением посетить Израиль, быть дорогим гостем, которому будет оказано всяческое внимание, уважение, почтение… Мы приехали в июле 1993 г. Полюбили Израиль, оценив огромные достижения еще молодого государства, красоту Святой земли…
Понимая, что напечатать роман в Москве в это время возможности не будет, Алексин передал его в израильскую газету «Новости недели», которая стала тут же печатать главу за главой. Первая публикация вышла в свет 23 ноября 1993 г., последняя – 2 февраля 1994 г.
Нам дали старую-престарую пишущую машинку, и я каждый день печатала для газеты следующую главу. На это ушло более двух месяцев. Купить газету, где публиковались главы романа, было трудно. После девяти утра уже не было ни одного номера. Тираж газеты почти удвоился. Нас радовало такое внимание к первой публикации в Израиле произведения Анатолия Алексина. Дальнейшие издания последовали в издательстве «Мория»: первое – тоже в 1994 г., а переиздания в том же издательстве – в 1995 и 1999 гг. Книга имела большой успех у читателей и в прессе.
В Москве роман был напечатан полностью в 1998 г. в четвертом томе пятитомного собрания сочинений издательством ТЕРРА, а в 2001-м – в восьмом томе девятитомного собрания сочинений издательством «Центрполиграф».
Вот такова история появления на свет моего любимого романа.
«Ночной обыск» («Игрушка»)
От автора: Всё, о чем здесь рассказано, было…
Посвящаю Татьяне и памяти ее отца, Евсея Фейнберга, погибшего в Магадане.
Москва, 1988 г.
Постепенно, раз за разом, я рассказывала мужу истории жизни своих родных, разделивших свои судьбы с судьбою страны. Судьбы эти были по началу своему невообразимо разными. А конец у всех стал трагически схожим.
Писатель Алексин, не только потому что любил меня, что я была ему женой, другом, соратницей, чутко и глубоко реагировал на мои печальные воспоминания. Он, тонкий психолог, осмысливал услышанное не только как член моей семьи, а как человек, проживший большую часть жизни при сталинском режиме, не имеющем аналогов. Даже гитлеризм, накрывший необозримую часть человечества варварством, жестокостью, необъяснимыми проявлениями безумства, не мог сравниться со сталинизмом, уничтожавшим не «врагов своих», а лучших людей страны, приписывая им «поступки», на которые не был способен «враг», названный режимом «врагом народа».
Повесть «Ночной обыск», вначале названная «Игрушкой», – отражение в основном постигшего нашу семью трагического несчастья. Поэтому заслуженно то ее посвящение, с которого я начала этот рассказ…
Я поведала мужу об отце, Евсее Борисовиче Фейнберге, который после смерти отца и мамы своих уехал из России вместе с братьями в Германию еще в 1921 г., до прихода к власти двух тиранов – Гитлера и Сталина. Отец его, мой дедушка, был владельцем-директором русско-французского банка в Москве и умер в 1910 г., не дожив до революции семи лет. А мама умерла от рака спустя три года после переворота…
Мой папа в 1927 г. вернулся в первую страну «победившего социализма», будучи наивным романтиком, обманутым красивыми идеями нового общества. Талантливый, умный, преданный своей профессии, он за свою короткую 33-летнюю жизнь успел сделать много полезного для этой страны. Но не избежал участи «врага народа» и погиб в Магадане.
Алексин, пережив услышанное в начале нашего союза, через много лет вернулся к этому сюжету, но не в буквальном пересказе всей истории, а положив ее в основу уже своей повести. Так, главный герой, отец повзрослевшей девочки, от имени которой и ведется повествование, – тоже вернувшийся из Германии коммунист, но родители которого живы, уехали из фашисткой Германии после прихода нацистов к власти и не одобрили возвращения сына в Россию, это стало поводом для разрыва отношений с семьей. Но слово «банкир», коим был старший, превратилось в прозвище сына. Имя дочери осталось в повести моим: девочку зовут тоже Татьяной. Имя жены также осталось именем моей мамы – Мария. Мой папа, предвидя свой арест, фиктивно развелся с женой, но оставался жить с нами. Владимир, так назвал Алексин главного героя, тоже «ушел из семьи» и по тем же соображениям. Но ушел из дома, сымитировав роман с другой женщиной, Ларисой, которой в реальности не существовало. Вот как Мария сообщает об этом Тане в ту ночь, когда майор со щитом и мечом на рукаве офицерской гимнастерки арестовывает маму Тани и уводит ее из дома уже навсегда:
«– Вот, об отце… Об отце я хотела сказать самое главное! – вроде бы вспомнила мама. – Никакой Ларисы на свете нет. Не существует! Это он выдумал. Чести своей не пожалел. Чести! Ради нас… Да, всё он выдумал, сочинил! И перед людьми опозорил, оклеветал самого себя. Зачем? Ты спросишь: зачем? И почему я не рассказала тебе? Не могла я раскрыть его план, не имела права! Святой план, святой… Зачем? Ты спросишь: зачем? Он не хотел, чтобы ты осталась сиротой, а я была женою врага народа… Но я жена врага!»
Лариса? Это имя куклы, которую отец привез дочери из заграничной командировки. Мне такую же куклу, которая была в то время выше меня ростом, мой папа тоже привез из своей должностной командировки. Я ее очень любила и безумно дорожила ею – это ведь был подарок моего уничтоженного отца. Только вот литературный ход Алексин избрал другой: по совету Владимира героиня Таня, играя с куклой, «делала ей операции». Разрезала животик, а потом его зашивала. Изображала из себя хирурга… В повести именно швы на животике куклы стали доказательством того, что, таким образом сокрыв шпионские бумаги, Владимир переправлял их через границу.
Эта сцена, по сути своей взятая из жизни, в реальности была куда страшнее: уже при обыске во время очередного ареста в нашей семье – моего дяди, жена и дочь которого жили в квартире бабушки, куда и мы с мамой перебрались после разлуки с папой, – «благородные рыцари щита и меча» сами разрезали животик моей куклы Ларисы мамиными маникюрными ножницами… у меня на глазах в поисках «авось спрятанных там угрожающих стране документов». От ужаса происходящего я забилась в угол дивана, а они совершали то кощунство, не считаясь с состоянием ребенка, ставшего свидетелем этого варварства: я только понимала, что совершается нечто, не поддающeеся восприятию, над подарком папы, бесконечно дорогим мне и никем не заменимым.
Именно поэтому повесть вначале и была издана под названием «Кукла. Воспоминание о детстве, которого не было».
В доме семьи Владимира и Татьяны постоянно бывали три друга. Все так же, как и отец Тани, имели прозвища: старика-химика звали либо Менделеевым, либо Ломоносовым, двух других – Наркомом и Комкором.
Когда речь зашла о человеке, которого неожиданно для друзей посадили, химик обратился к Марии:
– А вообще-то… почему вы, Мария Никитична, предполагаете, что человека могут так, за здорово живешь, взять да и посадить в кутузку?
– Не могут, а уже посадили, – ответила мама.
– Просто так? Ни с того, ни с сего? – не успокаивался химик столь упрямо, что его голос с трещинкой грозил вот-вот треснуть совсем и разлететься в куски в разные стороны.
– Не просто так! Кому-то понадобилось отторгнуть людей друг от друга… Создать атмосферу ужаса. Всеобщего отступничества!.. Я уверена, кто-то из кожи вон лезет, чтобы погрузить нас во мрак того трепета, всеобщего оцепенения, когда можно творить что угодно. Во тьме так удобнее действовать.
…В ту ночь арестовали старичка-химика. Когда он пришел от нас, его уже ждали…
«Сталина Нарком называл и считал „хозяином“, но хозяином беспредельно любимым… Он сутками стремился к одному и тому же: сделать так, чтобы „хозяин“ не имел претензий и был полностью удовлетворен. Это означало для Hаркома, что им полностью удовлетворен народ, удовлетворена Родина».
«И Комкор думал так. Сталин, народ, Родина для него это было одно и то же. Как для Наркома…»
«Прозвище Банкир начало исчезать из нашего дома, растворяться в изменившемся климате. Но постепенно… Сперва его стали произносить полушепотом, затем – шепотом, почти одними губами. А затем отец стал только Володей…»
После ареста старичка-химика, выражавшего уверенность, что просто так никого за решетку бросить не могут, Нарком и Комкор перестали бывать в их доме. «Боятся, чтобы их не объявили создателями вражеского центра со штабом в этой квартире? – задала вопрос мама».
Та же участь, что и старика-химика, постигла и Наркома, и Комкора.
«– Кто-то хочет создать, как я уже не раз говорила, атмосферу страха. Но не какого-нибудь обычного, маленького… а сатанинского! Тут как раз и нужна непредсказуемость, нелогичность репрессий. Пойми, если они логичны, то не так устрашающи, их можно избегнуть: не буду делать ничего предосудительного, и меня не тронут! А нелогичные действуют как бы вслепую, – и ты от них не гарантирован, стало быть, ни один человек. Ни один!
– Жутковато… Но, думаю, ты права, – с горечью согласился папа».
То, что понял мой отец, поплатившись за такое позднее прозрение жизнью, поняли и герои книги.
К счастью, жизнь повести, напечатанной в 1989 г. в журнале «Октябрь» тиражом 390 тыс. экземпляров, продолжена сотнями тысяч экземпляров в 1990 г. в книге «Глядя в глаза». В том же году – в книге «Чехарда». В 1994 г. – в газете «Надежда» (с 7 апреля по 19 мая); в 1996 г. – в сборнике «Ночной обыск», в 1998 г. – в первом томе пятитомного собрания сочинений, в 2000-м – в роман-газете «Мой брат играет на кларнете», в 2001-м – в третьем томе девятитомного собрания сочинений, в 2004 г. – во втором томе двухтомника, в 2009 г. – в книге «Повести и рассказы» в серии «Русская классика». Надеюсь, что повесть и в будущем поведает ее читателем о той трагической поре, которая постигла в прошлом Россию и миллионы ее граждан – от простого пахаря до наркомов и комкоров…
Уважаемые читатели!
Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:
старый сайт газеты.
А здесь Вы можете:
подписаться на газету,
приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,
а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство