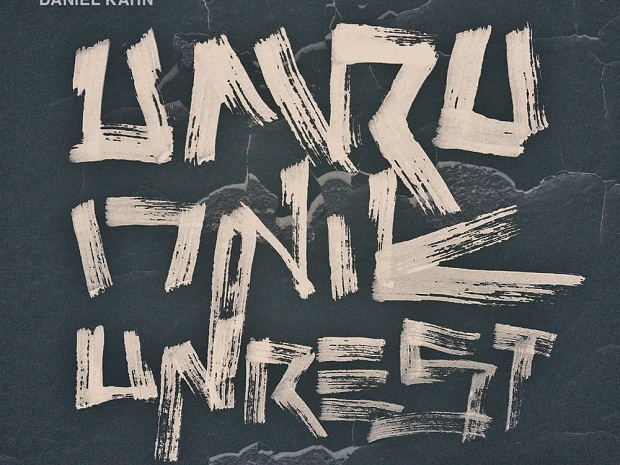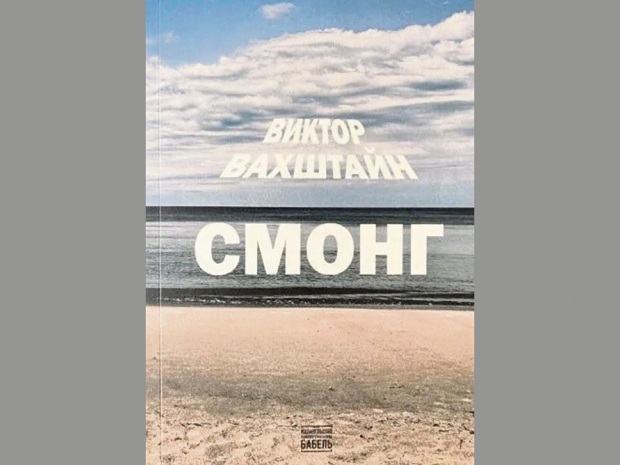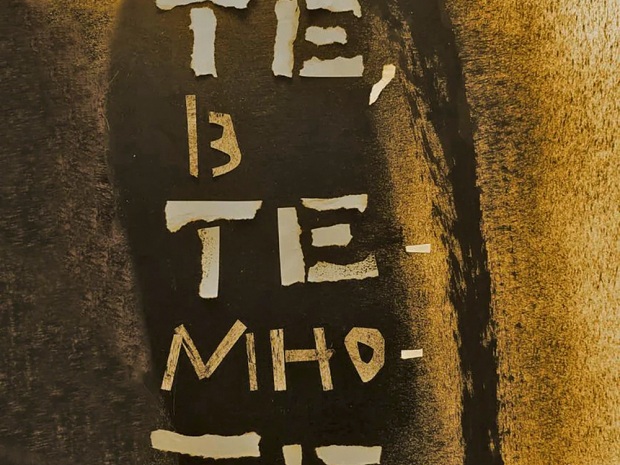«Мой друг! Почаще покидай четырехстенный рай...»
Поэт из нашего детства
Краса земли
Мы для покоя своего
Себе возводим дом.
На клетки расчертив его,
Живем и дышим в нем.
Вот в этой клеточке – едят,
А в той – работают, сидят,
А в этой спят, а в этой ждут
Гостей. И в каждой свой уют,
И всяк из всех стремится сил,
Чтоб дом красивей мира был.
Но прелесть милая земли
Не дастся в тесный плен.
Она не здесь, а там – вдали
От огражденных стен.
Попробуй – солнечный восход
Засунь под известковый свод,
В каморку тесную задвинь
Небесную крутую синь,
И плеск морей, и блеск луны,
И буйство пышное весны,
Деревьев праздник вековой,
И птицы взлет над головой!
Мой друг! Почаще покидай
Четырехстенный рай
И хлещущую через край
Красу земли вбирай.
Вот высота – она твоя!
И ветра влажная струя,
И яблони весенний цвет.
И девичьей улыбки свет,
И медленный разрыв зари –
Все для тебя!
Твое!
Бери!
Перевод Е. Благининой
Десять дочерей
Ну, щедра ж моя старуха –
Не найти щедрей,
Подарила мне старуха
Десять дочерей.
Десять девушек – огонь,
Обожжешься – только тронь,
За версту они видны –
Так красивы, так стройны.
Только все они с изъяном:
Кушать просят постоянно.
Вот селедку принесли,
Хвост у ней на славу,
Но попробуй раздели,
Чтоб на всю ораву:
Саре, Ривочке и Кейле,
Эльке, Шпринце, Тайбл, Бейле,
Фейге, Фрейдл да меньшой
Как не дать кусок большой?
А они ведь все такие,
Что хотят куски большие.
Но бывает иногда – и селедки нету,
Да случается беда – нету в доме света,
Да сидят они впотьмах
С черствой коркою в зубах,
Девки здоровенные,
Необыкновенные, –
Кто б ни взял, отдам уж –
Не берут их замуж…
А теперь я вот каков –
Молод, весел и здоров!
Десять дочек?
Ерунда!
Десять дочек?
Не беда!
Весь десяток нарасхват,
Дома не осталось,
Не понадобился сват:
Сами расписались.
И богатств не надо мне –
Все мое в моей стране.
И от дочек мне почет –
В гости каждая зовет.
Эх, прожить бы мне лет триста!
Стал на старости туристом –
То в Ташкент, то в Киев еду,
Надо ведь детей проведать.
Десять дочек?
Ерунда!
Десять дочек!
Не беда!
Все дородны, плодовиты,
Благородны, имениты.
И случается теперь,
Что ко мне стучатся в дверь:
– Есть еще красавица? –
...Как вам это нравится?
Перевод М. Живова
Анна-Ванна – бригадир
– Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят!
Мы их не обидим:
Поглядим и выйдем!
– Уходите со двора,
Лучше не просите!
Поросят купать пора,
После приходите.
– Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят
И потрогать спинки –
Много ли щетинки?
– Уходите со двора,
Лучше не просите!
Поросят кормит пора,
После приходите.
– Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят!
Рыльца – пятачками?
Хвостики – крючками?
– Уходите со двора,
Лучше не просите!
Поросятам спать пора,
После заходите.
– Анна-Ванна, наш отряд
Хочет видеть поросят!
– Уходите со двора,
Потерпите до утра.
Мы уже фонарь зажгли,
Поросята спать легли!
Перевод С. Михалкова
Лемеле хозяйничает
Мама уходит,
Спешит в магазин.
– Лемеле, ты
Остаешься один.
Мама сказала:
– Ты мне услужи:
Вымой тарелки,
Сестру уложи.
Дров наколоть
Не забудь, мой сынок,
Поймай петуха
И запри на замок.
Сестренка, тарелки,
Петух и дрова...
У Лемеле только
Одна голова!
Схватил он сестренку
И запер в сарай,
Сказал он сестренке:
– Ты здесь поиграй!
Дрова он усердно
Помыл кипятком,
Четыре тарелки
Разбил молотком.
Но долго пришлось
С петухом воевать –
Ему не хотелось
Ложиться в кровать.
Перевод Н. Найденовой
Лев Квитко: жизнь и судьба
Американский писатель Говард Фаст рассказывает в своих мемуарах о том, как вскоре после смерти Сталина он спросил у Бориса Полевого, который путешествовал вместе с группой советских деятелей литературы по США, не случилось ли чего с Львом Квитко. Они познакомились и подружились в Москве, но Квитко почему-то не отвечает на письма, ходят зловещие слухи...
– Не верьте слухам, – бодро ответил Полевой. – Квитко жив-здоров. Я живу с ним в одном доме.
Это говорилось, когда кости поэта истлевали в лубянской расстрельной яме вместе с прахом других убитых еврейских писателей. О, времена проклятые с их фарисейством и страхами, мучениками и палачами!
О светлом даровании Льва Квитко (Лейб он, конечно же, Лейб!) сказано много – о гармоничности его таланта, о детском восприятии жизни, о мелосе его поэзии, вошедшей в детское восприятие моего поколения. О том же, что мир его был вовсе не столь благостен, говорится редко.
Да, конечно же, нищее местечковое детство, сиротство, необходимость браться за любую черную работу ради куска хлеба и вместе с тем дар, пришедший к нему, самоучке, не получившему никакого образования, равно как поцелуй Бога – песенный, народный, фольклорный дар, изливавшийся в стихи, которые он писал всю сознательную жизнь, до самого своего последнего часа.
Но ведь и другое было. Революция, принятая им полностью (кем бы он стал, если бы не великое раскрепощение народных духовных сил, принесенное революцией), власть, которая казалась своей, но вместе с тем мучала, ломала, подчиняла своему идеологическому диктату всякую свободную литературу, а уж о еврейской – разговор особый, и без него здесь не обойтись.
Она существовала 80 лет. Дата рождения – 1872 г., когда Менделе Мойхер-Сфорим (Шолом-Алейхем недаром называл его «дедушка», подчеркивая роль классика, родоначальника) опубликовал повесть «Кляча» («Ди кляче»), где сумел подняться над просветительским утилитаризмом, свойственным идишистской культуре, и создать реальную и трагическую картину местечкового уклада жизни.
Конечно же, и до трех отцов-основателей – Менделе Мойхер-Сфорима, Ицхока Лейбуша Переса и Шолом-Алейхема – на идише писалось немало. Но в отличие от ивритской литературы с ее высокими эстетическими, интеллектуальными и религиозными идеалами идиш удовлетворял духовные потребности простонародья, делая это с помощью достаточно примитивной дидактики.
В Западной Европе в эпоху Просвещения он перестал служить литературному творчеству. Идущее по дороге ассимиляции еврейство предпочитало и писать, и читать на языке страны обитания. Но в Восточной Европе, где черта оседлости словно консервировала национальный быт, на ниве народной культуры стали расцветать ярчайшие цветы. Все оборвалось в 1940-е гг. Гитлер уничтожил читателей, Сталин – писателей. 12 августа 1952 г. – день расстрела еврейских писателей – членов Еврейского антифашистского комитета, составлявших цвет еврейской литературы, – стал датой ее конца.
В литературу Квитко ввел Давид Бергельсон, а вскоре, в революционные годы, он вошел в триаду ведущих поэтов киевской группы, где кроме него были Давид Гофштейн и Перец Маркиш. Для этой триады было характерно стремление внести яркое экспрессионистское начало в народную стихию идишистской поэзии. Все трое они уезжали в начале 1920-х за рубеж, а по возвращении дружили, помогали другу другу, входили в ЕАК и в один день погибли.
Квитко уехал в Германию. Вот отрывок из его берлинского письма в октябре 1922 г.: «Знали бы вы, как горько у меня на душе в этой самой „середке Европы“... Кроме кучки зануд, эмигрантских козлов, от которых разит за версту, кроме „Романишес кафе“, кроме мук-терзаний о заработке, меня уже вовсе пришибла весть о том, что мой единственный, как я полагал, выживший брат давным-давно умер в Америке...»
Впоследствии он переезжает в Гамбург, работает в советском торгпредстве, вступает в компартию Германии, ведет пропаганду среди рабочих и в 1925-м, опасаясь ареста, возвращается в СССР. Здесь поначалу все идет хорошо, его вводят в различные литературные ассоциации и редколлегии, он публикует рассказы о жизни в Гамбурге, автобиографическую повесть, массу стихов. За один только 1928 г. у него выходит 17 книжек для детей.
Но все круче становится идеологический диктат. Евсекциям – этим приводным ремням партии в работе с национальными меншинствами – мало закрывать синагоги, шельмовать раввинов, ликвидировать общинные институтции, они ставят под жесткий контроль все проявления еврейской культуры. Квитко с его неугомонным характером выступает против одного из лидеров Евсекций Литвакова, публикует сатирическое стихотворение «Вонючая птица Мойли» (Мойше Литваков). Немудрено, что после этого ему приписали «правый уклон», выкинули из редколлегий и перестали печатать. Он поступает рабочим на Харьковский тракторный завод, но и его сборник «В тракторном цеху» («Ин трактор-цех») не получает одобрения «пролетарской критики». Лишь после ликвидации в 1932-м литературных ассоциаций и групп все как-то успокаивается. Квитко перебирается в Москву, снова начинает активно печататься. Конечно, уроки не проходят зря. Его «Избранные сочинения» полностью отвечают требованиям социалистического реализма. Самоцензура ощутима и в автобиографическом романе «Годы молодые» о событиях 1918 г. Конечно, его мелодический дар не изменяет ему. Но все больше стихотворений под названиями «Ленин», «Перед портретом Ленина», «С моей страной»...
А дети все декламируют:
Климу Ворошилову
Письмо я написал:
«Товарищ Ворошилов,
Народный комиссар!
В Красную армию
Нынешний год,
В Красную армию
Брат мой идет.
В 1947-м с помпой отмечается 30-летие его литературной деятельности. Тридцать лет назад в феврале 1917-го он пишет другу: «Мне жизнь представляется полной неразберихой, но в ней скрыты жемчужины, это жемчужины романтизма. Жизнь была бы великолепна, мир изумителен, если бы мы сами не угробили все это... Я верю, что подлинный облик жизни и мира скрыт от нас, искажен. Где-то под руинами веков лежит забытый истинный оригинал – настоящая жизнь». Подписался ли бы поэт под этими словами на излете своего земного бытия?
А дети все читали:
Товарищ Ворошилов,
Я его люблю,
Товарищ Ворошилов,
Верь ему в бою.
Не поверил товарищ Ворошилов, не поверил и товарищ Сталин. Убил.
Уважаемые читатели!
Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:
старый сайт газеты.
А здесь Вы можете:
подписаться на газету,
приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,
а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде