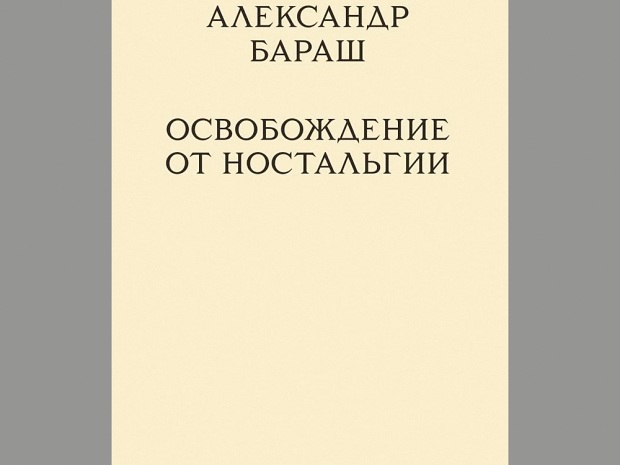Калий
Из сборника «Периодическая система»

О трагической судьбе итальянского писателя Примо Леви мы недавно писали («ЕП», 2019, № 7) в связи с его 100-летним юбилеем. Всемирную известность ему принес сборник рассказов «Периодическая система». Химик по образованию, он назвал рассказы по именам элементов периодической системы Менделеева. Начав со своих предков-евреев, обосновавшихся в Италии в XVI в., он вспоминает семейные предания, студенческие годы и страшные дни, проведенные в Освенциме. Это история молодого человека, выходца из пьемонтской еврейской среды, трагическую судьбу которого определили чудовищные события минувшего века. Предлагаем вниманию читателей «ЕП» один из рассказов этого сборника.
К январю 1941 г. судьба Европы и всего мира была решена. Только наивный мог еще надеяться, что Германия не победит. Близорукие англичане не замечали, что игра проиграна; они упорно противостояли бомбардировкам, но были в одиночестве и, атакованные со всех сторон, несли тяжелейшие потери. Только те, кто закрывали глаза и затыкали уши, могли не понимать, что ждет евреев в онемеченной Европе; мы же читали «Братьев Оппенгейм» Фейхтвангера, нелегально привезенных из Франции, и английскую «Белую книгу», привезенную из Палестины, в которой описывались нацистские зверства. В прочитанное верилось наполовину, но и этого было достаточно. В Италии оказалось много беженцев из Польши и Франции, и мы разговаривали с ними; они не могли сообщить нам достоверных сведений о массовых убийствах, совершавшихся под чудовищным покровом молчания, но каждый из них был вестником, как те трое, что приходили к Иову, говоря: «…и спасся только я один, чтобы возвестить тебе».
И все же, поскольку жить хотелось, молодость брала свое и кровь в жилах была горяча, не оставалось ничего другого, как добровольно выбрать слепоту; по примеру англичан мы «не замечали» или, отгоняя от себя мысли об опасности, не воспринимали, а потому тут же забывали пугающую нас информацию. Теоретически можно было бросить все и бежать, переехать в какую-нибудь далекую сказочную страну, из тех немногих, что еще держали открытыми свои границы, в Британский Гондурас или на Мадагаскар, но для этого надо было иметь много денег и фантастическую энергию, а ни я, ни моя семья, ни мои друзья не имели ни того, ни другого. Впрочем, когда глядишь на вещи с близкого расстояния и видишь их во всех деталях, они не кажутся столь уж пугающими: вокруг нас Италия или, точнее говоря (в то время мало кто путешествовал), Пьемонт и Турин, врагов здесь нет. Пьемонт – наша родина, другой мы не помним; горы вокруг Турина, которые видны в ясную погоду и до которых можно доехать на велосипеде, – наши горы, они научили нас трудолюбию, терпению и определенной мудрости, их ни на что не променяешь. Здесь, в Пьемонте и Турине, наши корни, и, хотя их нельзя назвать древними, они глубоки, обширны и так сплелись с другими корнями, что их не вырвать.
В нас, будь то «арийцы» или евреи, да и вообще во всем нашем поколении еще не вызрела мысль, что фашизму можно и должно сопротивляться. Наше тогдашнее сопротивление было пассивным; оно ограничивалось отстраненностью, неучастием, брезгливостью; мы пока не были готовы к активному сопротивлению. Вокруг нас не было противников фашизма. Приходилось начинать с нуля, «придумывать» собственный антифашизм, вынашивать его в себе, блуждать окольными путями, и пути эти уводили нас далеко: Библия, геометрия, физика – вот из каких источников мы черпали истину.
Собирались мы в спортивном зале старинной начальной еврейской школы, гордо именовавшейся «Талмуд Тора», и с помощью Библии, ассоциируя новых угнетателей с Ассуром и Навуходоносором, пытались ответить себе на вопросы, как победить несправедливость и восстановить справедливость. Но где Он теперь, Кадош Баруху, «Пресвятой, благословен Он», разорвавший рабские оковы, утопивший колесницы египтян? Почему Тот, Кто дал Моисею Закон и вдохновлял на освободительную борьбу Ездру и Неемию, больше никого не вдохновляет? Почему небо над нами безмолвно и пусто? Почему Он позволяет истреблять польские гетто? Медленно, трудно в нас вызревала мысль, что мы одни, что нам не на кого рассчитывать ни на земле, ни на небе и в своей борьбе мы должны полагаться только на собственные силы. А чтобы проверить предел своих возможностей, мы выбрали своеобразный (не такой уж нелепый) способ: мчаться сто километров на велосипеде, с остервенением и упорством карабкаться по почти незнакомым отвесным скалам, доводить себя до изнеможения, мерзнуть, голодать ради того, чтобы закалиться, воспитать в себе решимость. Гвоздь вобьется или не вобьется; веревка выдержит или не выдержит – это тоже истина.
Химия перестала быть для меня только химией. Я проник в сердце Материи и понял, что она в отличие от Духа моя союзница: Дух превозносят фашисты, значит, он мой враг. Но к четвертому курсу я вынужден был признать, что чистая химия, по крайней мере, в том виде, в каком нам ее преподносят, не может ответить на все мои вопросы. После лицея, где мне вдалбливали фашистскую идеологию под видом непререкаемой истины, все непререкаемые истины стали вызывать скуку или подозрение. Истоки химии доверия не внушают, они, мягко говоря, сомнительны: это алхимики на потаенных кухнях со своими путаными идеями, дурацкими названиями, нескрываемым интересом к золоту и восточным надувательством под видом врачевания и магии. Истоки физики – дело другое; там западная точность и ясность, там Архимед и Евклид. Физиком, вот кем бы я хотел стать, пусть даже и без диплома, раз Гитлер и Муссолини мне в нем отказывают.
На четвертом году обучения химикам по программе полагался краткий курс практической физики. Вел курс молодой ассистент – худой, высокий, сутулый, воспитанный и застенчивый; с нами он был необыкновенно деликатен, к такому обращению мы не привыкли. Остальные наши преподаватели, почти все без исключения, демонстрировали убежденность в том, что их предмет – самый главный, важнее всех остальных. Одни и в самом деле так считали, другие стремились лишь самоутвердиться за счет своего предмета, предъявить на него безраздельные права. Ассистент же держался так, словно чувствовал себя виноватым перед нами, словно извинялся, что вторгся в нашу жизнь. Его чуть застенчивая улыбка с налетом тонкой иронии словно говорила: «Я прекрасно понимаю, что с такой устаревшей, изношенной аппаратурой ничего путного не добиться, что все, чем мы здесь занимаемся, – ерунда, к науке никакого отношения не имеет, но вы должны научиться этому с моей помощью, а потому, будьте так добры, постарайтесь, не слишком усердствуя, усвоить как можно больше». Вскоре все девушки курса в него влюбились.
В течение последних месяцев перед окончанием университета я предпринимал отчаянные попытки получить место аспиранта у кого-нибудь из профессоров. Одни отказывали мне в моей просьбе, ссылаясь со смущенным или, наоборот, надменным видом на расовые законы, другие прибегали к смутным, малоубедительным отговоркам. Как-то вечером, буквально раздавленный четвертым или пятым отказом, я с горьким чувством возвращался домой на велосипеде. Медленно крутя педали, я ехал по улице Вальперга Калуза, и меня догоняли и перегоняли клочья холодного тумана, которые нес ветер со стороны парка Валентино. Было уже поздно, и свет фонарей, закрашенных фиолетовой краской по причине затемнения, едва пробивался через мглу и мрак.
Прохожие попадались редко, шли торопливо, но вот один неожиданно привлек мое внимание: немного сутулый, в длинном черном пальто, с непокрытой головой, он двигался в моем направлении неспешным размеренным шагом и очень походил на ассистента, преподававшего нам физику, да это он и был. Я колебался, как поступить, поэтому сначала обогнал его, потом, набравшись смелости, вернулся обратно и снова не решился заговорить. Что я о нем знал? Ничего. Он мог оказаться человеком бездушным, лицемерным, а то и вовсе врагом. Но потом я подумал, что ничем не рискую, в крайнем случае, услышу очередной отказ, поэтому подъехал к нему и спросил без обиняков, нельзя ли мне заниматься исследовательской работой на его факультете. Ассистент посмотрел на меня удивленно и вместо ожидаемых мной длинных разглагольствований ответил тремя евангельскими словами: «Иди за Мною».
На факультете экспериментальной физики в пыли обитали призраки прошлого. За стеклянными дверцами шкафов, тянувшихся длинными рядами, громоздились кипы пожелтевших, изъеденных мышами или молью бумаг; тут хранились наблюдения за затмениями, сведения о землетрясениях, метеорологические сводки начиная с первых лет прошлого века. У стены одного из коридоров лежала необыкновенная труба длиной более десяти метров, о происхождении и назначении которой никто ничего не знал, возможно, она должна была возвестить о наступлении Судного дня, когда все скрытое выйдет на свет.
Ассистент принял меня в каморке на первом этаже, служившей ему кабинетом и заставленной совсем другими, незнакомыми и очень любопытными приборами. Приборы ждут того, кому они понадобятся, но лично он занимается другими проблемами, связанными, в частности, с астрофизикой (я был потрясен: прямо передо мной стоял настоящий, живой астрофизик!). Да и не знает он, как очищать и дозировать необходимые для подобных опытов ингредиенты, тут нужен химик, так что добро пожаловать в лабораторию. Он выделил мне рабочее место (два квадратных метра на лабораторном столе и один письменный целиком), дал небольшой набор орудий труда, из которых главными были вестфальские весы и гетеродин. С такими весами я уже имел дело, что же касается гетеродина, то и с ним я нашел общий язык. Этот маломощный вспомогательный генератор был, по сути, радиоприемником, реагирующим на малейшие колебания частоты: стоило только пошевелиться на стуле, передвинуть руку или кому-нибудь войти в комнату, он начинал лаять, как дворовая собака. В определенные часы он выдавал кучу всевозможных таинственных сообщений: эфир разрывался от азбуки Морзе, разнообразных свистов, искаженных, едва различимых голосов, произносивших фразы на непонятных языках.
За горами, за морями, сказал ассистент, живет один ученый по имени Онзагер, о котором он знает только одно, что он вывел уравнение, способное объяснить поведение полярных молекул в любых условиях, главное, чтобы они находились в жидком состоянии. Опыты с разведенными растворами правильность его уравнения подтверждают, но не известно, пытался ли кто-нибудь проверить его на растворах концентрированных, а также на чистых полярных жидкостях и на их соединениях. Именно этой работой он мне и предложил заняться, и я с радостью, не раздумывая, согласился. Итак, я должен буду приготовить ряд сложных жидких смесей и проверить, подчиняются они уравнению Онзагера или не подчиняются. Но в первую очередь, поскольку сейчас нелегко достать продукты высокой чистоты, я должен сделать то, что сам он делать не умеет: посвятить несколько недель очистке бензола, хлорбензола, хлорфенолов, аминофенолов и толуидина.
После нескольких часов общения я уже много знал об ассистенте: ему было тридцать лет, он недавно женился, приехал в Турин из Триеста (хотя вообще-то по происхождению был греком), знал четыре языка, любил музыку, Хаксли, Ибсена, Конрада и моего дорогого Томаса Манна. Еще физику, но с подозрением относился к любой деятельности, ставившей перед собой какие-либо цели, поэтому всем своим аристократически ленивым существом ненавидел фашизм.
Его отношение к физике меня озадачило. Он физик, точнее, астрофизик, работает много и с душой, но иллюзий не строит. Истина находится в других пределах, она недоступна нашим телескопам, ее могут постичь лишь посвященные. Но путь к ней долог, и он идет по этому пути, идет с трудом, но и с восторгом, с великой радостью. Физика – это проза, утонченная гимнастика для ума, отражение мироздания, ключ к господству человека над планетами; но что такое на самом деле Мироздание, Человек, Планеты? Пока он только в начале пути, и, если я, его ученик, хочу идти с ним, он будет рад.
Предложение ассистента смутило меня. Опыта отношений ученика с учителем у меня еще не было, поэтому я обрадовался, получив подтверждение, что наши отношения могут стать взаимными: это сулило ежеминутное наслаждение, прямо-таки безоблачное счастье. Я, еврей, оказавшийся в силу последних событий в безнадежной изоляции, враг насилия, еще не втянутый в водоворот ответного насилия, мог стать для него идеальным слушателем, чистым листом, на котором он писал бы все, что ему захочется. Но немцы в это время разрушали Белград, подавляли сопротивление греков, высаживали парашютные десанты на Крит, и истина, реальная истина была там. Лазеек не оставалось, во всяком случае, для меня, и я не ухватился за крылатую мечту, предложенную мне ассистентом. Лучше синица в руке, чем журавль в небе; лучше готовиться к неведомому, впрочем, не обещавшему ничего хорошего будущему, экспериментируя с диполями и очищая бензол, чем витать в облаках.
Очищение бензола в условиях войны и бомбардировок тоже было делом нелегким. Ассистент предоставил мне полную свободу действий: я мог перерыть весь факультет в поисках того, что мне нужно, но приобретать новое права не имел. Даже он в тогдашних условиях абсолютной автаркии не имел такого права.
Я нашел в подвале бутыль 95-процентного технического бензола – лучше, чем ничего. Если верить учебникам, его требовалось подвергнуть перегонке, а затем, чтобы освободить от последних следов влаги, дистиллировать вторично, уже с использованием натрия. Перегонять (или дистиллировать, что одно и то же) следовало дробно, отбраковывая фракции с температурой кипения ниже или выше положенной, пока в процессе разделения не будет достигнута та единственная температура кипения, которая соответствует температуре кипения чистого бензола. Все в той же подвальной сокровищнице нашел я и подходящую стеклянную посуду, в том числе ректификационные колонки Вигрэ, изящные, как произведения искусства, плод сверхчеловеческого терпения высококлассных стеклодувов, но (между нами говоря) не очень эффективные. Водяную баню я соорудил сам из алюминиевой кастрюли.
Перегонка – приятное занятие: неторопливое, философское, молчаливое, оно напоминает езду на велосипеде, потому что требует внимания, но позволяет думать и о другом. Еще перегонка – это постоянные изменения: жидкость становится невидимым паром, пар становится снова жидкостью; но этим двойным превращением, этим движением отсюда туда и оттуда сюда достигается чистота – поразительное и в то же время сомнительное понятие, которое идет от химии и может увести очень далеко. Наконец, приступая к перегонке, надо помнить, что ты повторяешь освященный веками ритуал, почти религиозный обряд, в процессе которого из несовершенной материи получаешь самое существенное, что в ней есть, – спирт, в первую очередь – алкоголь, который веселит душу и греет сердце. Я потратил целых два дня, чтобы получить фракцию удовлетворительной чистоты. Для этой процедуры, учитывая, что я работал с открытым огнем, я добровольно заточил себя в пустую комнатушку на втором этаже, полностью изолированную от внешнего мира.
Теперь мне предстоял заключительный этап – дистилляция с использованием натрия. Натрий – выродившийся металл, можно даже сказать, металл лишь по названию, по своей химической классификации, а не в обычном понимании этого слова. Он не просто нетвердый, он мягкий, как воск, и неблестящий; вернее, он серебристо-белый, если хранится со строгим соблюдением всех мер предосторожности, но стоит ему соприкоснуться с воздухом, он вмиг покрывается отвратительной шершавой кожурой. Столь же молниеносно он реагирует и с водой, всплывая над ее поверхностью (металл, который плавает в воде!), приходя в неистовое движение и бурно освобождая водород. Перерыв весь факультет, я нашел десятки пузырьков с этикетками, сотни мудреных составов, склянки, к которым, судя по осадку, оставшемуся от неизвестного содержимого, никто не прикасался на протяжении многих лет, но натрия не нашел. Зато обнаружил калий. Калий и натрий – братья-близнецы, поэтому я забрал пузырек с калием и вернулся в свое убежище.
В колбу с бензолом я положил комочек калия размером с полгорошины (точно по учебнику) и тщательно дистиллировал содержимое. В конце операции, как положено, я погасил огонь, разобрал прибор, подождал, пока оставшаяся в колбе влага немного остынет, и затем, проткнув острием длинного железного прута комочек, извлек его наружу.
Калий, как я уже говорил, близнец натрия, но с воздухом и водой реагирует гораздо энергичнее, чем его брат. Всем известно (в том числе и мне), что при контакте с водой он не только освобождает водород, но и воспламеняется. Поэтому я обращался со своей половинкой горошины как с реликвией: положил ее на кусочек сухой фильтровальной бумаги, завернул, спустился во двор, выкопал крошечную могилку и закопал в нее крошечный трупик бесноватого калия. Мало того, я еще тщательно утрамбовал сверху землю и только после этого вернулся к своей работе.
Пустую колбу я поставил в раковину и открыл кран. Послышался короткий хлопок, из горла колбы поднялся столб пламени, и тут же на окне, находившемся рядом с раковиной, загорелись занавески. Пока я метался, ища что-нибудь подходящее для тушения, начали поджариваться ставни, и все помещение наполнилось дымом. Наконец я подставил к окну стул, сорвал занавески, бросил их на пол и начал яростно топтать ногами. Кровь бешено стучала у меня в висках.
Когда все кончилось и последние очаги горения были потушены, я словно окаменел и несколько минут стоял посреди учиненного разгрома, ничего не видя, не чувствуя и не понимая. Придя наконец в себя, я на трясущихся ногах спустился на первый этаж и рассказал о случившемся ассистенту.
Ассистент выслушал мой отчет с вежливым вниманием, в котором сквозило любопытство: кто, мол, тебя заставлял пускаться в опасное плаванье и с таким рвением дистиллировать бензол? Сам виноват! Такое могло случиться только с профаном, вроде тех, что веселятся перед дверями храма вместо того, чтобы войти внутрь. Но вслух ассистент не сказал ничего, напомнив (как всегда, будто против воли) о разделяющей нас дистанции; он только заметил, что пустая колба воспламениться не могла, значит, она не была пустой. В ней должны были находиться остатки паров бензола и, само собой разумеется, воздух, проникший в колбу через горловину. Но где это видано, чтобы пары бензола, причем холодные, непроизвольно воспламенялись? Только калий способен был зажечь смесь, но калий ведь был изъят. Полностью, я уверен?
Полностью, ответил я, и тут меня охватили сомнения. Я вернулся в свою комнатушку и, подобрав с пола осколки колбы, стал их внимательно разглядывать. На одном было почти микроскопическое белое пятнышко. Я проверил его фенолфталеином: это был гидроксид калия. Итак, виновник найден! Приставшего к стеклу крошечного кусочка оказалось достаточно, чтобы налитая в колбу вода вступила в реакцию и воспламенила пары бензола.
Ассистент смотрел на меня насмешливо, я его явно развеселил. Лучше не делать, чем делать, прочел я в его взгляде, лучше размышлять, чем действовать, лучше его астрофизика, стоящая на пороге Непознаваемого, чем моя вонючая химия со взрывами и ничтожными дурацкими фокусами. Я же думал иначе, и с моей, более земной и конкретной позицией согласится, думаю, любой профессиональный химик: «почти одинаковые» не значит «одинаковые» (натрий почти то же самое, что и калий, но с натрием не случится то, что случается с калием); «практически идентичные» не значит «идентичные». Не следует доверять всякого рода «приблизительно», «либо-либо», суррогатам и подменам. Различия могут быть мизерными, зато последствия – непредсказуемыми, они способны увести далеко, как железнодорожная ветка. Профессия химика по большому счету и состоит в умении замечать эти ничтожные различия, распознавать их, учась на собственном опыте, предвидеть последствия. Впрочем, это относится не только к профессии химика.
Уважаемые читатели!
Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:
старый сайт газеты.
А здесь Вы можете:
подписаться на газету,
приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,
а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство