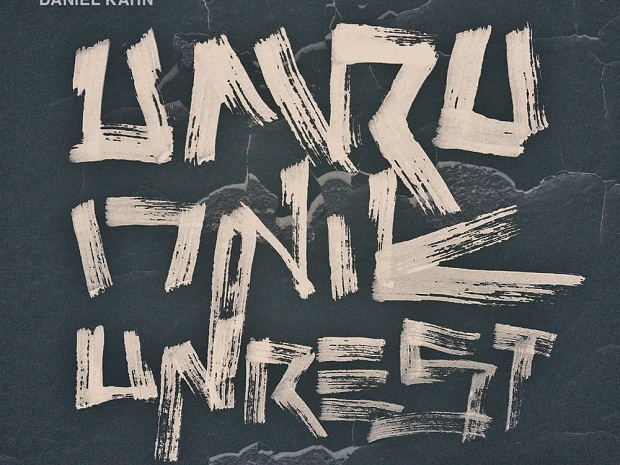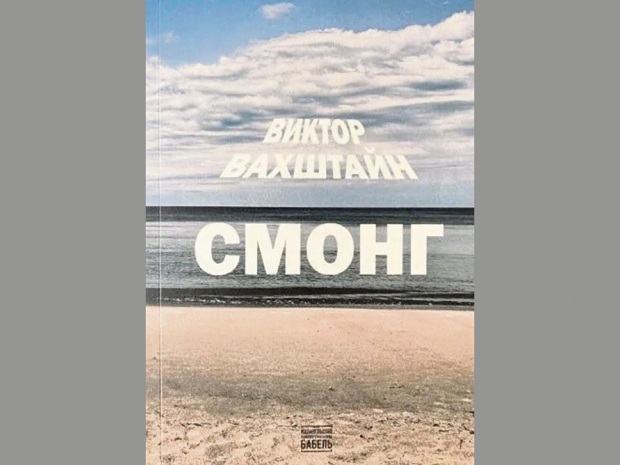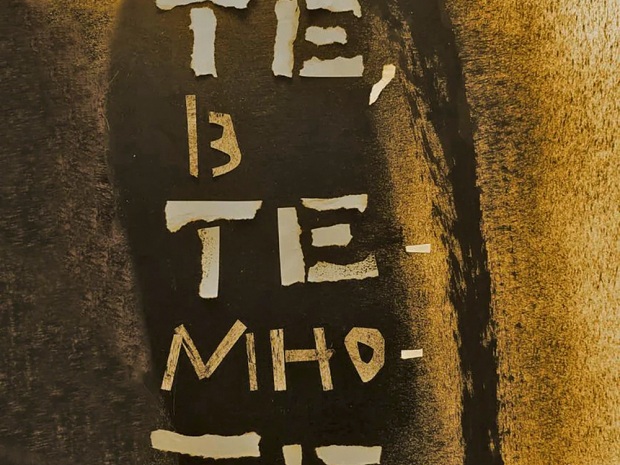Игры со временем
Причудливый побег русско-еврейского семейного древа

Андрей Колесников© AFP
У автора книги «Дом на Старой площади» (Москва, изд-во АСТ, 2018), эксперта Московского центра Карнеги Андрея Колесникова, как и положено, – два деда. Одного звали Иван Иванович, а другого – Давид Соломонович. Иван Иванович, крестьянский сын, гордящийся своим происхождением, в молодости прошел через ЧОН, раскулачивание и, начав делать судейскую карьеру, во время войны был председателем дивизионного трибунала, а затем, продолжив карьеру, достиг весьма высоких судейских должностей. Между тем Давид Соломонович, талантливый архитектор «буржуазного» происхождения, в 1938-м был репрессирован и девять лет спустя умер в лагерной больнице. Побегом вот такого причудливого семейного древа стал Андрей Колесников, сформировавшийся в перестроечные времена либеральный журналист и политолог.
Его отец Владимир Иванович Колесников, дитя военного времени, наживший язву желудка в голодном детстве, был перспективным юристом, пошедшим затем по комсомольско-партийной «линии» – райком, горком и, наконец, ЦК, где он в течение 20 лет работал с жалобами трудящихся.
И отец, и дед были людьми, «преданными делу партии» и вместе с тем способными на поступки. Дед, работая в 1937-м в судейском ведомстве на Дальнем Востоке, с риском для жизни предупредил о готовящемся аресте своего заместителя, и тот, добравшись до Москвы, отстоял себя. А отец в разгар антисемитской кампании, будучи комсомольским работником, женился на еврейке, да еще дочери «врага народа».
Эти отдельные нонконформистские поступки никак не сказались на их чувстве преданности строю со всеми его злодеяниями. Как это уживалось в их сознании с коммунистическими убеждениями? «Эти убеждения, – пишет Андрей Колесников, – в буквальном смысле как веру – отец впитал от своих родителей. И ничто – ни опыт, ни образование, ни скептический склад ума, ни круг друзей-интеллектуалов – не смогло эту веру, абсолютно ортодоксальную, пошатнуть».
Анализируя отношение к Сталину в обеих своих семьях – русской и еврейской, – автор сравнивает это отношение с восприятием погоды, которая может быть плохой или хорошей, но что тут поделаешь. И приходит к выводу, что конформизм был естественной средой жизни в семье как судейского начальника, так и зэка.
И здесь мне вспоминается эпизод из жизни моей семьи, в которой отец полтора десятка лет отдал ГУЛАГу. Он рассказывал, как после реабилитации весной 1954 г. вышел из здания ЦК с партбилетом и направлением в газету (до ареста он работал в «Комсомольской правде») и в задумчивости присел на скамейку в скверике. А может он описать все, что было с ним, как есть, без прикрас и умолчаний? Написать для детей, внуков, оставив до иных времен, когда бы они ни пришли. Но это означало жизнь тайную, скудную, подвижническую. Хотелось же передышки и для себя, и для семьи, примирения с действительностью, привычной газетной работы, забытых житейских благ. И он пошел в газету, писал, ездил, руководил отделами. Я спрашивал его, как можно было после таких чудовищных страданий, в условиях массового насилия, характерного для всей тогдашней жизни, прославлять и утверждать эту жизнь.
Он разводил руками: «А что делать?» И в таком простом житейском ответе скрывалось значительно больше, чем казалось на первый взгляд. Никакой альтернативы у него, как и у миллионов его сверстников, не оставалось. Ни убежать из страны, ни уйти в себя не представлялось возможным. Они были воспитаны этой системой, охватившей все проявления человеческого существования, вошли в нее, не зная ничего другого, стали ее законными детьми, одни более, другие менее последовательными в своих мыслях и действиях. Одних удерживало от нравственного падения органически присущие человеку этические ценности, у других представления о добре, справедливости приглушались страхами и низменными страстями.
Беда заключалась в потере точек опоры. Кроме извечных заповедей – не убий, не укради... – не оставалось ничего. Да и эти заповеди подрывались воспитанием: классовое выше общечеловеческого. Такая философия, помноженная на обычные человеческие пороки, приводила к утрате привычных нравственных критериев, искажению духовного зрения, видения мира.
Размышляя на тему воспитания чувств, применительно к образу своего отца, Андрей Колесников делает весьма тонкое замечание. Он видит одну из причин его несгибаемой веры в политический строй в том, что он ставил знак равенства между преданностью системе и нравственностью. Преданность системе была частью его внутреннего нравственного кодекса.
Конечно, человеческую природу нельзя было переделать за полвека. Многое оставалось, таилось в глубинах общества, народа. Более того, находились люди, которые, пройдя через лагерный ад, не примыкали к власти, даже если открывалась такая возможность, уходили в тайнописание, в религиозную жизнь, в своего рода пассивное сопротивление. Однако решиться на такое мог не всякий. И Андрей Колесников знает таких людей, они составляют часть его среды.
Если его отец, по долгу службы соприкасаясь с высшими советскими властителями – Брежневым, Андроповым, Сусловым, Кириленко – дает им в своих мемуарах характеристики, то сыну интересны другие люди. Это Валерия Новодворская, руководитель «Мемориала» Арсений Рогинский, Борис Золотухин – адвокат, исключенный из адвокатуры за защиту Александра Гинзбурга и впоследствии ставший одним из авторов судебной реформы. Он создает их образы в небольших эссе, полных теплоты, граничащей с восхищением.
У отца и сына не только разные человеческие ориентиры, но и разное видение истории. Они жили как будто бы в одной стране, но каждый видел ее по-своему, причем шлюзы памяти сына подчас открывает какая-нибудь малозначительная на первый взгляд деталь воспоминаний отца. Вот он вспоминает свое предвоенное детство: «На голову надевали „испанки“ – вроде нынешней пилотки. Тогда все мы мечтали поехать в Испанию – сражаться против фашистов». У сына здесь возникает интересный комментарий. Он признает героическое участие советских людей в гражданской войне в Испании и мифологию, строившуюся на этой почве. Но «если бы Испании не было, Сталину стоило бы ее придумать. Она облагораживала его режим. Превращала в глазах многих из тоталитарного в „просто левый“… К тому же появилась еще одна революционная латиноамериканская субстанция – Куба. Она была нужна Хрущеву так же, как Сталину Испания».
Тема войны проходит в воспоминаниях и отца, и сына. Но как? Отец удивлен советским поражением в Финской войне. Ведь поначалу говорилось, что зимняя кампания займет две недели. И из сына тут же выскакивает ассоциация с нынешними российскими заверениями: за те же две недели можно взять Грозный, да и Киев Россия способна взять за тот же сакраментальный срок.
Раскручивается в сознании автора книги мысль о современных локальных войнах, о том, что они рисуются как триумфальное шествие, легкая прогулка и в то же время как средство консолидации нации и повышения рейтинга верховного главнокомандующего. И как выстрел следует вывод: «Самый страшный результат крымской кампании, конфликта на юго-востоке Украины, сирийской кампании – реабилитация в массовом сознании войны».
Реалии новейшей российской истории служат материалом для диалогов сына и отца подчас в самой причудливой форме. Отец вспоминает, как в 1943 г. он впервые увидел погоны на плечах советских офицеров, введенные по инициативе графа-генерала Игнатьева. Это неприятно удивило его: зачем такое возвращение к «золотопогонной» традиции в рабоче-крестьянской Красной армии? Да и появление формы у представителей различных гражданских ведомств – железнодорожного, юстиции, горного – также не вызывает его понимания. Но зато сын понимает причины этого повсеместного «оформления», он видит в нем часть патриотической эстетики, милитаризации облика профессиональных корпораций. «Страна, превращенная в марширующие колонны облаченных в форму людей, – мечта любого диктатора XX в.».
Книга представляет собой историческое полотно, на фоне которого журналист XXI в. ведет игры с временем, своего рода разговор с тенями незабытых предков. Жизнь деда, диалоги с отцом дают возможность познавать психологию и мотивацию поступков миллионов советских людей XX в. При этом образ отца – главный объект исследования автора – в какой-то мере трансформируется. Его ортодоксальная вера в коммунистический идеал претерпевает изменения.
Есть явления действительности, которые он не может не видеть еще в начальную пору своей партийной работы – инструктором райкома партии, которому подведомственны учреждения культуры. С брезгливой иронией он наблюдает, как первый секретарь райкома боится подписывать характеристики на поездки за границу деятелей культуры: «Опять ты со своими диссидентами»; как председатель Союза писателей Константин Федин при всех своих регалиях и чинах точно так же трепещет от страха при приеме новых членов Союза; как знаменитый режиссер Охлопков заискивает перед ним, молодым инструктором. Всюду страх, нежелание брать на себя ответственность, пресмыкательство перед партийной властью.
Это чувство брезгливости не мешает ощущению важности и целесообразности собственной карьеры, преклонению перед «священными стенами Центрального комитета», когда он приходит в эти стены и остается там на 20 лет. Сын уподобляет такое романтическое мироощущение отца, не разрушаемое при столкновении с реальной жизнью, вере в Бога.
Но жизнь все бомбит веру отца. И в конце своей цековской карьеры, в общем так и не состоявшейся из-за той же искренности убеждений, он шепотом говорит своему близкому другу в ответ на его вопрос: «Ну почему все так происходит в стране?» – «Партийная мафия».
Эту книгу нельзя читать без волнения. Искренность и исповедальная открытость чувств обоих героев – отца и сына – подкупает и вместе с тем заставляет сознавать, насколько же мы связаны с советской цивилизацией, с прошлым страны и как трудно, почти невозможно отряхнуть его прах с наших ног.
Уважаемые читатели!
Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:
старый сайт газеты.
А здесь Вы можете:
подписаться на газету,
приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,
а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде