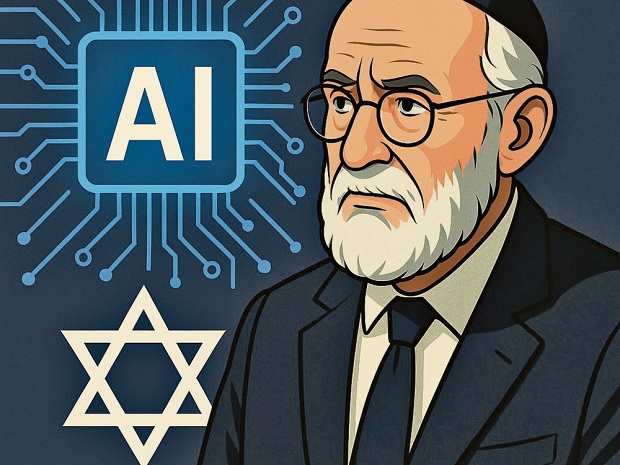Политкорректные рамки для культуры памяти
Для Клаудии Рот история Германии – это всё что угодно, кроме истории немцев

Клаудиа Рот призывает не только к неограниченному приему иммигрантов, но и к растворению истории Германии в их истории © TOBIAS SCHWARZ/AFP
Клаудиа Рот любит пестроту во всём: для государственного министра культуры всё всегда должно быть разнообразным и многогранным. Это касается и германской культуры памяти. В феврале ведомство Рот разместило на своем сайте проект так называемой «Рамочной концепции культуры памяти», чтобы придать новый импульс дискуссии о политике памяти в Германии. Позднее документ исчез из Сети, но уже некоторое время его новая версия путешествует по редакциям всевозможных СМИ.
Концепция эта весьма своеобразна: в ней государственный министр культуры дает исчерпывающее представление о том, как, по ее мнению, необходимо реорганизовать подход Германии к истории. Для этого к двум центральным германским столпам памяти – преступлениям национал-социализма и германскому разделению / германскому единству – она добавляет еще три темы: «Колониализм», «Культура памяти и общество иммигрантов» и «Культура демократии».
По одним только этим ключевым словам можно понять намерения, и они вызывают вопросы. Очевидно, что отныне историческая политика должна служить в качестве идеологического подкрепления «борьбы с правыми» и реорганизации Германии в «разнообразное» иммигрантское общество. Или, как выразилась Клаудиа Рот в своей статье для газеты Tagesspiegel в середине февраля: «Прежде всего важно сформировать политику памяти для иммиграционного общества».
С точки зрения государственного министра, немецкой истории в подлинном смысле этого слова, похоже, больше не существует. Вместо этого история превращается в сборник опыта людей со всего мира. В документе, представляющем собой подлинную вакханалию «разнообразия», в «немецкую» историю полностью включена также «история предков тех людей, кто приехал к нам». Это означает, что немецкая история неизбежно является одновременно и всем, и ничем.
В концепции пространно объясняется, что «открытая и плюралистическая культура памяти» может возникнуть только в том случае, «если опыт и взгляды как можно большего числа людей, живущих в Германии, будут признаны и станут частью демократического переговорного процесса, поддерживающего фундаментальные ценности нашего общества». Таким образом, немецкая культура памяти – это история разнообразия, которая каждый день пересматривается в ходе «переговоров» между теми, кто живет здесь давно, и теми, кто приехал сюда недавно.
Однако интерес к специфически немецким «реперам памяти» отсутствует. Например, бегство и изгнание 12 млн немцев из Восточной Европы после Второй мировой войны просто классифицируется на «зеленом» жаргоне как один из аспектов истории «мобильности и миграции». Воспоминания о жизни и культуре немцев как немцев от Силезии до Восточной Пруссии? А кто это такие?
В целом в документе представлен поразительно асимметричный взгляд на взаимодействие местных жителей и иммигрантов. Например, в нем подчеркивается, что «так называемые» гастарбайтеры были важной частью германского экономического чуда. Это противопоставляется «плохим условиям труда, ксенофобии и расизму», которые якобы затрудняли их интеграцию. В другом месте говорится, что усилия иммигрантов по интеграции заслуживают «большего признания». Вскоре после этого сообщается, что в повседневной жизни иммигранты сталкиваются с «дискриминацией и даже открытой ненавистью, нападками и насилием».
И тут к весьма политкорректному в нынешней «историографии» жесту самобичевания весьма подходит желание государственного министра культуры сделать акцент на памяти о колониальной истории Германии. В частности, ее интересует, например, дальнейшее рассмотрение вопроса о репатриации «колониальных» ценностей в страны их происхождения или «работа с колониальными следами в общественном пространстве».
Полностью соответствуя постколониалистским воззрениям, концепция выражает сожаление по поводу того, что многие современные явления неравенства можно отнести к последствиям «империализма и колониализма». Эти события, мол, и сегодня влияют на политические и социальные условия, например, в форме дискриминации и расизма. Концепция открыто заявляет о намерении использовать сей историко-политический фокус для «борьбы с нынешним расизмом в германском обществе».
В целом «рамочная концепция» представляет собой довольно плоскую попытку низвести историческую память до простого инструмента «зеленой» идеологии. Впрочем, в одном авторы документа всё же правы: германской «культуре памяти» придется реагировать на массовую иммиграцию из других культур. Это касается прежде всего того, как мы относимся к Холокосту и антисемитизму, о чем еще раз свидетельствуют многочисленные антиизраильские демонстрации последних месяцев.
Главная проблема заключается в следующем: рассказы о зверствах в отношении евреев, в которых Ганс, Герберт и Фриц были виновны 80 лет назад, конечно же, не вызовут у Ахмеда, Мухаммеда или Хасана особо сильных эмоций. Вместо этого мы должны в гораздо большей степени познакомить их с тем сотрудничеством, которое их предки, мусульмане и арабы, осуществляли с нацистской Германией. Именно это предлагает историк Михаэль Вольффсон.
Именно вокруг этих вопросов должна была бы вращаться «современная концепция памяти» для предполагаемого или реального иммиграционного общества. В документе из ведомства Рот, однако, тщетно искать ясноe осознаниe того, что иммиграция не просто великолепна, разнообразна и обогащает наше общество, но также может быть частью наших проблем с «культурой памяти».
Концепция также подверглась резкой критике в политическом и историческом мейнстриме, хотя и по другим причинам: многочисленные руководители мемориальных объектов пожаловались в недавно опубликованном письме, что в ней не прояснено «центральное значение рассмотрения нацистских преступлений для государственного самовосприятия Федеративной Республики». Критика была направлена против попыток бесконечного расширения культуры памяти с целью включить в нее все возможные темы, как это предусмотрено государственным министром культуры. По мнению историков, документ может быть «воспринят как исторический ревизионизм в смысле тривиализации нацистских преступлений». Надо отдать должное Клаудии Рот: на своем министерском пути она не пропускает ни одной лужи, чтобы смачно в нее не усесться.
Перевод с нем. Оригинал опубликован на сайте Tichys Einblick online (www.tichyseinblick.de).
Переждать Клаву
Журналист и историк Свен Феликс Келлерхофф проанализировал в газете Die Welt один из документов с протестом против планов бывшего менеджера панк-группы Ton, Steine, Scherben, написанный от имени практически всех учреждений, занимающихся исторической памятью. Документ датирован 25 апреля 2024 г. В письме от 3 апреля та же группа «подписантов» указала на «столь серьезные недостатки» в министерском проекте, в то время еще находившемся в работе, что «данный проект не следует продолжать».
Принятую в 1999 г. федеральную концепцию мемориалов авторы письма считают «большим достижением», поскольку она улучшила «ранее шаткое положение мемориалов и повысила их работоспособность». Однако необходимо «дальнейшее развитие» концепции, которая в последний раз пересматривалась в 2008 г., поскольку «за последние 16 лет ландшафт мемориалов вырос», их социальная видимость и значимость увеличились.
Собственно, проект министерства и должен был способствовать этому. Однако, по мнению практиков, он представляет собой не более чем мутный бульон из идеологически обусловленных предпосылок и является полной противоположностью тому, чeго от него ожидали.
Во-первых, следует уточнить, «за какие предметные области» существует «особая ответственность Федеративной Республики». Во-вторых, прежде чем расширять сферу ответственности, необходимо оценить текущее состояние мемориалов. В-третьих, должны быть установлены критерии для будущего финансирования.
Исходя из этих вопросов, которые, в отличие от проекта Рот, четко сформулированы, руководители мемориалов приходят к выводу: «Немецкая историческая культура в основном сформирована диктаторским опытом насилия XX в.». Поэтому национал-социализм должен оставаться «в центре внимания». Однако и «осмысление диктатуры СЕПГ стало общегосударственной задачей».
Идею Рот о включении колониализма в концепцию немецкой мемориальной культуры авторы документа оценивают скептически. Особая задача «заключается в том, чтобы соотнести преступления, совершенные в эти исторические эпохи, с преступлениями последующих эпох и, при необходимости, разграничить их». Это направлено против намеренной или ненамеренной тенденции замалчивать в «постколониальных исследованиях» Холокост и тем более несправедливость, совершенную СЕПГ: «Преступления, совершенные государством в германских колониях, больше не должны игнорироваться, но их признание должно осуществляться при условии, что преступления нацистов не будут релятивированы, а несправедливость СЕПГ не будет тривиализирована».
Однако и в этом документе есть не слишком убедительные фрагменты. Например, в нем говорится, что успешным оказалось «сосредоточение внимания только на мемориалах в местах совершения преступлений, организованных государством». Но это не так. С точки зрения аудитории, нет принципиальной разницы в том, увековечивают ли мемориалы память жертв государственных репрессий или, например, жертв террористов. Так что было бы разумным включить подобные объекты в концепцию мемориальной культуры.
От того, как Клаудиа Рот отреагирует на критику со стороны руководителей мемориалов, вероятно, будет зависеть возможность продвижения концепции в этот законодательный период. По крайней мере некоторые руководители соответствующих учреждений предпочитают тактику промедления, поскольку уверены, что после выборов министром культуры не останется человек с партбилетом «зеленых».
Уважаемые читатели!
Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:
старый сайт газеты.
А здесь Вы можете:
подписаться на газету,
приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,
а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Политика и общество

Скрыть антисемитизм за «нелюбовью к Израилю» не удастся
О тревожащей симпатии вице-президента к распространителям антисемитского нарратива

«В желтой жаркой Африке, в центральной ее части, как-то вдруг вне графика случилося несчастье...»
Израиль первым признал суверенитет Сомалиленда

Корабль «Германия» и беспомощность на капитанском мостике
Историки и банкиры сомневаются в способностях политиков
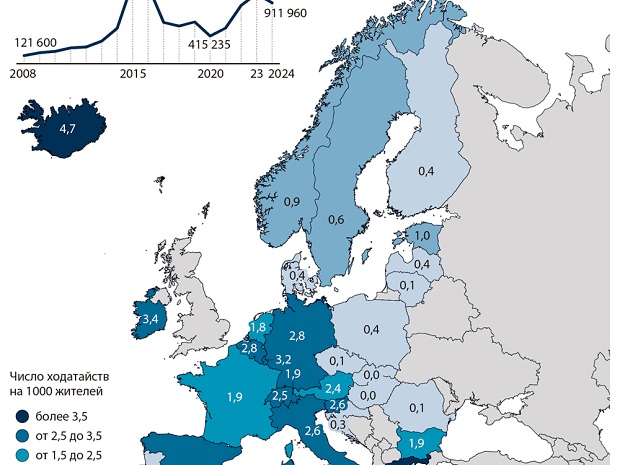
Ой, где был я вчера – не пойму, хоть убей…
Традиционную Западную Европу ныне нужно искать в Восточной
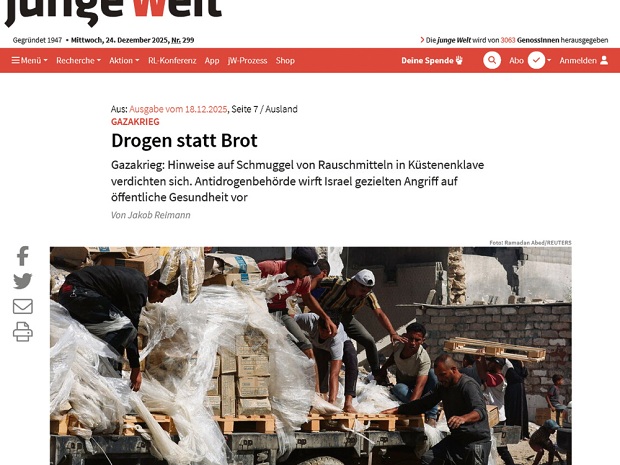
Почем опиум для палестинского народа?
Некоторые обвиняют Израиль в том, что он доставляет его туда бесплатно