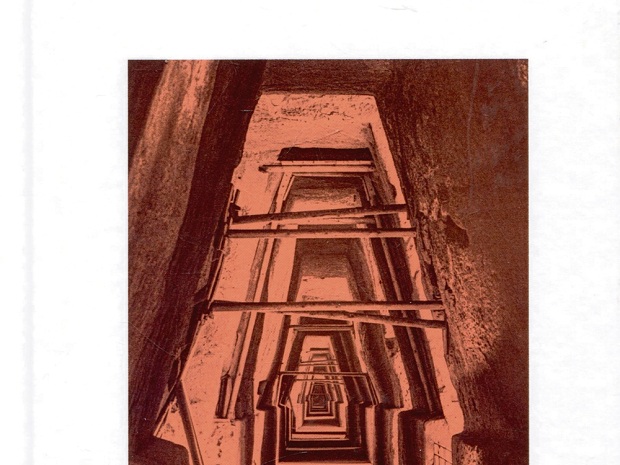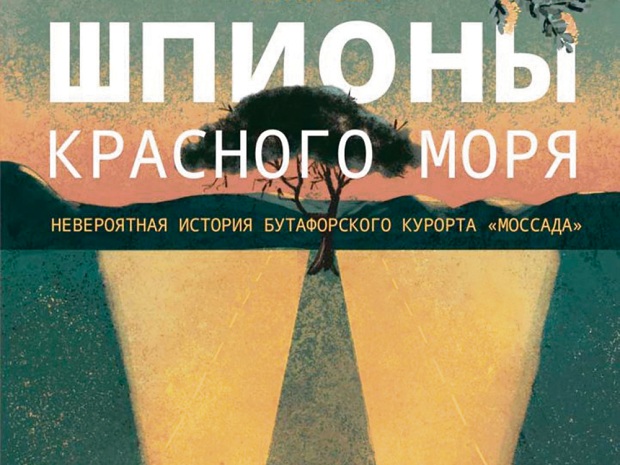Учитель чтения
Фрагменты из книги

© WIKIPEDIA
На исходе прошлого года на 90-м году жизни в Нью-Хейвене скончался Гарольд Блум, знаменитый американский литературный критик и литературовед, историк и теоретик культуры, библеист и религиовед. Он родился в Нью-Йорке в семье еврейских выходцев из России, в доме говорили на идише, и этот язык, так же как иврит, он знал раньше, чем английский. Тем не менее Гарольд сумел завоевать позиции законодателя англоязычной литературы в те же годы, когда законодателем немецкой литературы в Германии стал другой выходец из еврейской семьи – Марсель Райх-Раницкий. Только Райху довелось пережить Варшавское гетто, польский послевоенный антисемитизм и лишь после побега в ФРГ стать тем, кем он стал, – критиком, от которого в немалой степени зависела писательская репутация.
Жизнь же Блума, будучи наполненной интеллектуальными страстями, внешне была ровной. Он окончил Корнельский университет, где учился у исследователя поэтики романтизма Мейера Говарда Абрамса и уже тогда отличался фантастической памятью и сверхъестественной работоспособностью. В 1955 г. защитил диссертацию в Йельском университете, где преподавал до конца жизни. Последнюю лекцию Блум прочел за несколько дней до кончины.
В центре его интересов были феномены сакрального в современном мире. Отсюда его книги о поэзии, и прежде всего о романтической и религиозной поэзии, работы о священных текстах (в первую очередь о Библии).
Из многочисленных трудов Блума наибольшее внимание публики и критики привлекли книги о «страхе влияния» как механизме литературной динамики и о формировании канона западной литературы, в частности американской словесности, а также феноменов «гения», «великой книги» и т. п. Вряд ли есть хоть сколько-нибудь значительный англоязычный автор, о котором Блум не написал бы, причем, нередко, книгу. В этом смысле он не только исследовал канон, но и деятельно его формировал.
Пожалуй, самая известная и полемически заостренная книга Гарольда Блума – «Западный канон», страстное исследование механизмов формирования литературной классики в западноевропейской культуре. В ней Блум пишет о 26 главных авторах западного мира – от Данте до Толстого, от Гёте до Беккета, от Дикинсон до Неруды, а в самый центр канона помещает Шекспира. Он боготворил Шекспира и рассматривал Библию как литературный текст, называл себя «светским раввином» и своим истинным призванием, по крайней мере в старости, полагал учительство, а не литературную критику. Блум учил внимательному чтению и наслаждению языком, не случайно его самым любимым персонажем у Шекспира был Фальстаф – фонтан остроумия и жизнелюбия.
Мы предлагаем вниманию читателей «ЕП» несколько фрагментов из «Западного канона»
Западный канон
В этой книге говорится о 26 писателях – с неизбежной примесью ностальгического чувства, так как я стремлюсь выделить качества, сделавшие этих авторов каноническими, то есть исключительно авторитетными в нашей культуре. Здесь же я хочу растолковать, как выстроена эта книга, и объяснить, почему я выбрал 26 этих писателей из многих сотен, составляющих то, что некогда считалось Западным каноном.
Исторический ряд
Джамбаттиста Вико в «Основаниях новой науки об общей природе наций» задал цикл из трех стадий – теократической, аристократической и демократической, – затем следует хаос, из которого в итоге возникнет новая теократическая эпоха.
Мой исторический ряд открывается Данте и кончается Сэмюэлом Беккетом, но иной раз я несколько отклонялся от хронологии. Так, я открыл аристократическую эпоху Шекспиром, потому что он – центральная фигура Западного канона. И далее я обращался к нему в связи с практически всеми прочими авторами, от Чосера и Монтеня, которые оказали на него воздействие, до многих, на кого повлиял он сам, – в частности, Мильтона, доктора Джонсона, Гёте, Ибсена, Джойса и Беккета, – и тех, кто силился его отвергнуть: главным образом Толстого.
Выбор авторов не столь произволен, как может показаться. Они были отобраны в силу их возвышенности и репрезентативности: книгу о 26 писателях написать возможно, книгу о четырех сотнях – нет. Я попытался представить каноны разных стран важнейшими их фигурами: Чосером, Шекспиром, Мильтоном, Вордсвортом, Диккенсом – английский; Монтенем и Мольером – французский; Данте – итальянский; Сервантесом – испанский; Толстым – русский; Гёте – немецкий; Борхесом и Нерудой – латиноамериканский; Уитменом и Дикинсон – Соединенных Штатов.
В наличии ряд первостепенных драматургов – Шекспир, Мольер, Ибсен и Беккет – и романистов: Остен, Диккенс, Джордж Элиот, Толстой, Пруст, Джойс и Вулф. В качестве величайшего западного литературоведа и критика наличествует доктор Джонсон; найти ему соперника было бы трудно.
У Вико возвращению теократической эпохи не предшествует хаотическая эпоха; но наш век, хотя он и выдает себя за продолжение демократической эпохи, не может быть охарактеризован точнее, чем хаотический. Ключевые для него писатели – Фрейд, Пруст, Джойс, Кафка: в них воплощен литературный дух эпохи, какой ни есть. Фрейд называл себя ученым, но уцелеет он в качестве великого эссеиста наподобие Монтеня или Эмерсона, а не в качестве создателя терапевтического метода, уже низведенного (а может, возвышенного) до очередной вехи длинной истории шаманизма. Мне бы хотелось уместить сюда больше современных поэтов, не только Неруду и Пессоа, но ни один поэт нашего века не написал ничего сопоставимого с «В поисках утраченного времени», «Улиссом», «Поминками по Финнегану», эссе Фрейда, притчами и новеллами Кафки.
Что делает автора каноническим
Говоря о большинстве из этих 26 писателей, я попытался подступиться к величию напрямую: поставить вопрос о том, что делает автора или сочинение каноническим. Ответ, как правило, был – странность, такая форма самобытности, которая либо не поддается усвоению, либо сама усваивает нас и перестает казаться нам странной.
Когда впервые читаешь каноническое сочинение, то встречаешься с незнакомцем, с диковинным ощущением неожиданности, а не с оправданием своих ожиданий. Единственная общая черта, которую обнаружат «свежепрочтенные» «Божественная комедия», «Потерянный рай», вторая часть «Фауста», «Хаджи-Мурат», «Пер Гюнт», «Улисс» и «Всеобщая песнь», – это наличие в них той самой тревожащей диковинности, их способность заставить нас почувствовать себя в родных стенах не как дома.
Один из признаков самобытности, благодаря которой литературное произведение может снискать канонический статус, – странность, которая либо никогда не усваивается нами целиком, либо делается такой данностью, что мы уже не замечаем ее специфических особенностей. Нагляднейший пример первого случая – Данте, а лучший образчик второго – Шекспир. Неизменно противоречивый Уолт Уитмен сочетает в себе обе стороны этого парадокса.
Яхвист
Величайший представитель данности после Шекспира – первый из авторов ТАНАХа, фигура, которую библеисты XIX в. назвали Яхвистом, или J (от немецкого написания ивритского слова Yahweh, по-английски – Jehovah, вследствие сделанной некогда орфографической ошибки). J – подобно Гомеру, человек или ряд людей, затерянный в тайниках времен, – похоже, жил в Иерусалиме или поблизости от него примерно 3000 лет назад, задолго до того, как Гомер либо родился, либо был придуман.
Кто был «исходным» J, мы едва ли когда-нибудь узнаем. Я предполагаю, основываясь на своих сугубо внутренних и субъективных доводах литературоведческого характера, что J вполне могла быть некая женщина при дворе царя Соломона – среде высокой культуры, изрядного религиозного скептицизма и внушительной психологической изощренности.
Проницательный рецензент моей «Книги J» упрекнул меня в том, что мне не достало дерзости пойти до конца и опознать в J Вирсавию, царицу-мать – хеттеянку, которую взял в жены царь Давид, предварительно подстроивший гибель в бою ее мужа Урии. Я с радостью следую этому совету задним числом: Вирсавия, мать Соломона, – превосходная кандидатура. Тогда легко объяснить и мрачное отношение к злосчастному сыну и преемнику Соломона Ровоаму, подразумеваемое всем текстом Яхвиста, и весьма ироническое изображение иудейских патриархов, и приязнь к иным из их жен, а также к иноземкам Агари и Фамари. Опять же, в том обстоятельстве, что первоначальное авторство будущей Торы вообще принадлежит не израильтянину, а хеттеянке, есть отменная, совершенно в духе J, ирония. Далее я называю Яхвиста попеременно J или Вирсавией.
J – первый автор того, что сейчас называется Бытие, Исход и Числа, но в течение пяти веков написанное ею подвергалось цензуре, переработке, многочисленным сокращениям и искажениям со стороны ряда редакторов, последним из которых был Ездра или кто-то из его последователей, в эпоху возвращения из Вавилонского пленения. Эти ревизионисты были священниками и писцами, и их, видимо, возмутили те иронические вольности, которые Вирсавия позволила себе в изображении Яхве.
В Яхве J много человеческого – слишком человеческого: он ест и пьет, часто выходит из себя, радуется, причиняя вред, он ревнив и мстителен, декларирует беспристрастность, при этом постоянно оказывая кому-то предпочтение, и обнаруживает изрядную невротическую тревожность, решившись распространить свое благословение с элиты на весь народ Израилев. Когда он ведет эту обезумевшую и измученную толпу через Синайскую пустыню, он уже так маловменяем, так опасен для себя и для других, что J следует признать первейшим богохульником среди писателей всех времен и народов.
Сага J, насколько можно судить, заканчивается тем, что Яхве своими руками кладет Моисея в безымянную могилу, дав перед этим многострадальному вождю израильтян всего раз взглянуть на землю обетованную. Шедевр Вирсавии – это история отношений Яхве и Моисея, повествование по ту сторону иронии или трагизма о том, как Яхве избрал не слишком к тому расположенного пророка, о том, как он без причины пытался убить Моисея, и о последующих неприятностях, заставляющих страдать и Бога, и его орудие.
Амбивалентность во взаимоотношениях божественного и человеческого – одно из величайших изобретений J, еще один признак самобытности столь устойчивой, что мы едва ее осознаем, так как рассказы Вирсавии «поглотили» нас.
Главное потрясение, неотъемлемое от этой канонотворческой самобытности, приходит с пониманием того, что поклонение Богу на Западе – у евреев, христиан и мусульман – это поклонение литературному персонажу, Яхве J, пусть и разжиженному набожными ревизионистами. Сопоставимое потрясение приходит еще лишь в двух известных мне случаях: когда мы понимаем, что возлюбленный христианами Христос – это литературный персонаж, во многом созданный автором Евангелия от Марка, и когда читаем Коран и слышим один-единственный голос, голос Аллаха, чьи слова подробно и долго запоминал его дерзновенный пророк Мухаммед.
Каноническая странность бывает и без этой потрясающей дерзости, но всякое произведение, одержавшее бесспорную победу в борьбе с традицией и вошедшее в Канон, непременно овеяно духом самобытности.
Толстой
Значимы ли убеждения Толстого – нравственные, религиозные, эстетические? Если относить этот вопрос к убеждениям как таковым, то ответ будет положительным применительно к прошлому, когда появилось множество толстовцев, но не к настоящему, в котором его должно читать вместе с Гомером, Яхвистом, Данте и Шекспиром – как, возможно, единственного писателя со времен Возрождения, способного вступить с ними в соперничество. Он был бы удручен такой долей; он выше ценил себя в качестве пророка, чем в качестве рассказчика. По-писательски он приветствовал бы соседство с «Илиадой» и Книгой Бытия, но, вне всякого сомнения, не перестал бы презирать Данте и Шекспира.
Особую ярость у него вызывал «Король Лир» – при том, что свои последние дни он провел, невольно играя роль Лира, когда бежал из дома в отчаянном порыве к окаянной свободе. Он несказанно хотел мученичества, которого прозорливое царское правительство никак ему не давало – оно преследовало его приверженцев, но не трогало известного во всем мире мудреца и прозаика-эпика, очень рано признанного законным наследником Пушкина, завершителем его дела и, соответственно, величайшим русским писателем.
И все же трактату «Что такое искусство?», в котором он яростно обличает греческие трагедии, Данте, Микеланджело, Шекспира и Бетховена, противостоит потрясающий «Хаджи-Мурат», повесть, написанная им между 1896 и 1904 гг., но при его жизни не опубликованная.
При том, что он иногда осуждал «Хаджи-Мурата» как потакание своим желаниям, он делал набросок за наброском этой повести и очень хорошо понимал, что это шедевр, причем противоречивший почти всем его принципам, согласно которым искусству следовало быть христианским и нравственным.
Как-то не решаешься поставить «Хаджи-Мурата» надо всеми прочими свершениями Толстого в жанре повести – жанре, в котором он достиг совершенства: речь идет о таких замечательных вещах, как «Смерть Ивана Ильича», «Хозяин и работник», «Дьявол», «Казаки», «Крейцерова соната» и «Отец Сергий». Тем не менее даже о первых двух вещах из этого списка нельзя сказать, что они не дают мне покоя так же, как «Хаджи-Мурат», – с тех самых пор как я впервые прочел его больше 40 лет назад. Это мой личный эталон возвышенного в художественной прозе, на мой вкус – лучшая повесть на свете, во всяком случае, лучшая из всех, что я когда-либо читал.
На протяжении всей этой книги я утверждаю, что самобытность, сиречь странность, есть свойство, которое в большей мере, нежели какое-либо иное, делает сочинение каноническим. Странность Толстого странна сама по себе, потому что она самым парадоксальным образом на первый взгляд не кажется странной. В словах повествователя всегда слышишь слова Толстого, и слова эти обращены прямо к тебе, разумны, уверенны и добры.
Виктор Шкловский, один из крупнейших современных русских литературоведов, отмечал, что «самый обычный прием у Толстого – это когда он отказывается узнавать вещи и описывает их, как в первый раз виденные». Благодаря этой технике отстранения в сочетании с тоном, который берет Толстой, читатель пребывает в радостном убеждении, что Толстой позволяет ему видеть все, как в первый раз, в то же время внушая ему такое чувство, что он уже все видел. Единое ощущение чуждости и привычности кажется невозможным, но уникальную атмосферу сочинений Толстого создает именно оно.
Как литературное произведение может одновременно быть пугающе необычным и совершенно естественным? Наверное, можно утверждать, что в самых выдающихся произведениях – в «Божественной комедии», «Гамлете», «Короле Лире», «Дон Кихоте», «Потерянном рае», второй части «Фауста», «Пер Гюнте», «Войне и мире», «В поисках утраченного времени» – эти антитетические свойства сливаются друг с другом. На них можно смотреть со множества точек зрения, они, возможно, даже сами создают точки зрения. Но немногие повести способны вместить озадачивающие антиномии. «Хаджи-Мурат» кажется странным, как «Одиссея», и знакомым, как вещи Хемингуэя. Когда повесть Толстого завершается героическим последним сражением Хаджи-Мурата – он и его верные товарищи, которых можно буквально пересчитать по пальцам, против целой армии врагов, – мы не можем не вспомнить самого, на мой взгляд, запоминающегося эпизода «По ком звонит колокол»: последнего боя Эль Сордо и его горстки партизан с куда более многочисленными и лучше вооруженными фашистами. Тут Хемингуэй, вечный и усердный ученик Толстого, великолепно подражает великому оригиналу.
«Хаджи-Мурат» – величайшее исключение из правил позднего творчества Толстого: тут старый шаман соперничает с Шекспиром. Толстой хитро усвоил выдающуюся способность Шекспира наделять даже самых незначительных персонажей буйством бытия, до отказа набивать их жизнью.
В «Хаджи-Мурате» живо индивидуализирован каждый: Шамиль; царь Николай; Авдеев, несчастный русский солдат, убитый в стычке; князь Воронцов, которому сдается Хаджи-Мурат…
Все эти 14 персонажей и еще дюжина третьестепенных очерчены с шекспировскими точностью и задором, создавая контекст, «усиливающий» Хаджи-Мурата, которого мы в конце концов узнаем, как знаем великих воинов Шекспира: Отелло, Антония, Кориолана и бастарда Фоконбриджа из «Короля Иоанна». Более того, Хаджи-Мурата мы узнаем основательнее, чем можем узнать Анну Каренину, которая слишком близка к Толстому. Для разнообразия, подобно Шекспиру, Толстой говорит не совсем своим голосом и играет великую роль Хаджи-Мурата, естественного человека, представленного эпическим героем.
Повесть Толстого начинается с краткого пролога, в котором рассказчик, возвращаясь с прогулки, с большим трудом срывает «чудный малиновый, в полном цвету, репей». Уже этот репей неявно знаменует собою Хаджи-Мурата: «Какая, однако, энергия и сила жизни… Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь». Каждый раз, когда я читаю этот пролог, я изумляюсь тому, что самоочевидная символичность репья не кажется мне художественным изъяном. Но затем я думаю о том, что в «Хаджи-Мурате» все по-хорошему очевидно. Во всей повести нет ни одного неожиданного события или непредвиденного поворота; более того, Толстой нередко заранее дает нам знать обо всем, что будет дальше. Эта техника достигает вершины дестабилизации нарратива, когда мы видим отрубленную голову героя перед подробным описанием последнего боя Хаджи-Мурата. Толстой как будто предполагает, что нам вся эта история известна, – и при этом воздерживается от размышлений о ее смыслах; он не выводит из нее никакой морали и не заводит никаких споров. Насколько можно судить, значение тут имеет не действие и не пафос, а исключительно этос героя, раскрытие нам характера Хаджи-Мурата.
Несмотря на свою проницательность и храбрость, герой изначально обречен: он загнан в ловушку между двумя злобными деспотами – Шамилем и царем Николаем. Его судьба тем самым предопределена; русские не доверятся ему настолько, чтобы дать возглавить восстание против Шамиля, и все же он должен попытаться спасти свою семью, взятую имамом в заложники. Поэтому он тоже, как и Толстой с читателем, знает, как должна закончиться его история, как должна закончиться всякая история, касающаяся удела эпического героя. Но Хаджи-Мурат – не Дантов Улисс и не какой бы то ни было другой эпический герой, заточенный в запоздало морализированной вселенной. Он – шекспировского толка протагонист, и в самой глубине его этоса лежит способность о внутренней перемене, усиленная противостоянием тому, что должно его уничтожить; так Антоний наконец «очеловечивается», когда его оставляет бог Геркулес. Рассказывая историю Хаджи-Мурата, Толстой так зачаровывается искусством рассказчика, что освобождается от толстовских доктрин, меняя их на чистоту искусства и его практики.
Страх влияния
Расширение Канона на практике стало уничтожением Канона, потому что в учебные программы сейчас входят вовсе не лучшие писатели, В их творчестве нет ни странности, ни самобытности; а если бы и были, то их оказалось бы недостаточно для создания преемников Яхвиста и Гомера, Данте и Шекспира, Сервантеса и Джойса.
Кроме Шекспира, лишь немногие добились относительной свободы от страха влияния: Мильтон, Мольер, Гёте, Толстой, Ибсен, Фрейд, Джойс – для каждого из них, за исключением Мольера, составлял проблему один Шекспир. Величие узнает величие и затеняется им. Писать после Шекспира, который создал и лучшую прозу, и лучшие стихи в западной традиции, – нелегкая участь, поскольку самобытность делается особенно труднодостижима в том, что важнее всего: это изображение людей, когнитивная роль памяти, диапазон метафоры в расширении возможностей языка. Тут Шекспир наиболее силен, и никто не сравнился с ним в качестве психолога, мыслителя и ритора.
Страх влияния калечит слабые таланты, но подзадоривает канонический гений. Трех самых ярких американских писателей хаотической эпохи – Хемингуэя, Фицджеральда и Фолкнера – тесно объединяет то, что все они возникли из влияния Джозефа Конрада, но хитроумно умерили его, совместив Конрада с предшественником-американцем: Хемингуэй – с Марком Твеном, Фицджеральд – с Генри Джеймсом, Фолкнер – с Германом Мелвиллом. Сильные писатели не выбирают своих главных предшественников – это те их выбирают, но у сильных писателей достает разумения, чтобы превратить предшественников в составные и, следовательно, отчасти воображаемые сущности.
Сильные литературные произведения нельзя отделить от их тревог, вызванных сочинениями, предшествующими им и над ними главенствующими. Хотя большинство исследователей противятся пониманию процессов литературного влияния или идеализируют эти процессы, изображая их как сугубо безвозмездные и благостные, мрачные истины касательно соперничества и «заражения» крепнут по мере удлинения истории Канона. Стихотворения, пьесы и романы возникают исключительно как следствие предшествующих сочинений, как бы ни было сильно их желание непосредственно служить общественным нуждам. Обусловленность правит литературой так же, как и любым когнитивным занятием, и обусловленность, установленная Западным литературным каноном, проявляется в первую очередь в страхе влияния, который формирует и деформирует всякое новое произведение, стремящееся к долговечности.
Уважаемые читатели!
Старый сайт нашей газеты с покупками и подписками, которые Вы сделали на нем, Вы можете найти здесь:
старый сайт газеты.
А здесь Вы можете:
подписаться на газету,
приобрести актуальный номер или предыдущие выпуски,
а также заказать ознакомительный экземпляр газеты

в печатном или электронном виде

Культура и искусство

Верить ли Голливуду, оплакивающему жертв Холокоста?
«Зона интересов» Глейзера против зоны интересов кинобомонда